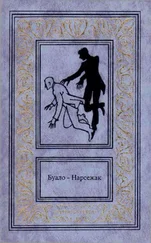Заметка попалась ему на глаза случайно. Когда за чашкой кофе он рассеянно просматривал газету, его внимание привлек заголовок на четвертой странице. Полиция расследовала обстоятельства смерти Мадлен. Допрашивали Жевиня. Это выглядело так ошеломляюще, так неуместно на фоне сообщений первой страницы, фотографий разрушенных, сожженных деревень, что ему пришлось перечитать заметку еще раз. Никаких сомнений: полиция явно отвергла версию самоубийства. Вот все, на что она оказалась годна, эта полиция, и это в то самое время, когда толпы беженцев наводняют дороги страны. Ему-то, Флавьеру, доподлинно известно, что Жевинь ни в Чем не виноват. Как только все утрясется, он поедет в Париж и скажет им об этом. А пока поезда ходят из рук вон плохо, с дикими опозданиями.
Шли дни, газеты стали посвящать целые полосы беспорядочным сражениям, опустошавшим северные равнины, и никто уже не мог толком сказать, где немцы и где французы, где англичане и где бельгийцы. Флавьер все реже вспоминал о Жевине. Правда, он обещал себе при первой же возможности сделать все для восстановления истины. Это решение придало ему некоторую уверенность в себе и позволило с удвоенным пылом отдаться тому, что волновало всех. Он ходил в собор на мессы в честь Жанны д’Арк. Молился за Францию, за Мадлен. Он больше не делал различия между национальной катастрофой и личным несчастьем. Франция — это Мадлен, растерзанная и истекающая кровью у подножия стены. А потом настал и черед орлеанцев увязывать узлы и рассаживаться по машинам. Клиент Флавьера куда-то сгинул. «Раз уж вас тут ничего не удерживает, — говорили ему, — самое благоразумное вам тоже отправиться на юг». Как-то в минутном порыве храбрости он попробовал дозвониться до Жевиня. Никто не отвечал. Вокзал Сен-Пьер-де-Кор разбомбили. С могильным холодом в душе он забрался в автобус, отправлявшийся в Тулузу. Он не знал, что уезжает на четыре года.
— Дышите!.. Кашляните!.. Хорошо… Теперь послушаем сердце… Задержите дыхание… Гм!.. Что-то мне не очень нравится… Одевайтесь.
Доктор изучающе смотрел на Флавьера, пока тот натягивал рубашку и, неловко отворачиваясь, застегивал брюки.
— Вы женаты?
— Нет, холост… Я вернулся из Африки.
— Были в плену?
— Нет. Я уехал в сороковом году. Меня забраковали из-за запущенного плеврита, который я заработал в тридцать восьмом.
— Думаете поселиться в Париже?
— Еще не знаю. В Дакаре у меня адвокатская контора. Но я думаю возобновить практику здесь.
— Юридическую?
— Да. Только моя квартира занята. А найти что-то сейчас…
Доктор теребил мочку уха, не спуская глаз с Флавьера, который никак не мог как следует повязать галстук и оттого нервничал.
— Вы пьете, не так ли?
Флавьер пожал плечами:
— А что, заметно?
— Это ваше дело, — ответил доктор.
— Да, выпиваю, — признался Флавьер. — Жизнь — штука непростая.
Доктор неопределенно повел рукой. Он уселся за стол, отвинтил колпачок авторучки.
— Ваше общее состояние оставляет желать лучшего, — заключил он. Вам необходимо отдохнуть. На вашем месте я бы поехал на Юг. Ницца, Канны… Что касается ваших навязчивых идей… тут нужно показаться специалисту. Я сейчас напишу записку своему коллеге, доктору Баллару, обратитесь к нему.
— Как по-вашему: это серьезно?
— Покажитесь доктору Баллару.
Перо заскрипело по бумаге. Флавьер вытащил из бумажника пачку купюр.
— Пойдете в отдел снабжения, — сказал доктор, не прекращая писать. — По этой справке будете получать дополнительную норму мяса и жиров. Избегайте волнений. Никакой переписки, никаких дел. С вас триста франков. Благодарю.
Он проводил Флавьера до двери и впустил очередного пациента. По лестнице Флавьер спускался весьма недовольный результатом визита. «Покажитесь специалисту!» Психиатру, который вытянет из него самое сокровенное, вынудит его рассказать все, что он знает о смерти Мадлен. Нет, это невозможно! Уж лучше ему продолжать жить со своими кошмарами, каждую ночь во сне блуждать в запутанных галереях мира, населенного нечистью, взывать к кому-то во тьме… Впрочем, в этом наверняка повинна африканская жара, тамошнее пылающее солнце. Тут он излечится от всего этого.
Подняв воротник пальто, он пошел в сторону площади Терн. Он не узнавал Париж, все еще тонущий в зимних туманах; пустынные проспекты, по которым сновали одни только «джипы», казались ему незнакомыми. Он чувствовал, что на фоне послевоенной бедности выглядит одетым чуть ли не с вызывающей роскошью, и ему было не по себе. Шел он быстро, как и остальные прохожие: время, когда люди могли позволить себе гулять, еще не вернулось. В серой мути едва угадывались очертания Триумфальной арки. Все вокруг было окрашено в цвет прошлого, в цвет воспоминаний. Не лучше ли было остаться там, в Африке? Чего он ждет от этого паломничества? У него были другие женщины: раны зарубцевались. Мадлен превратилась в призрачную тень…
Читать дальше
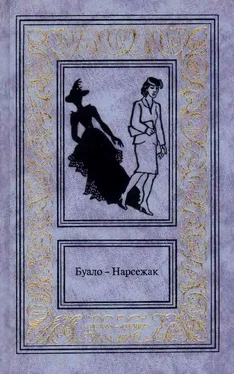


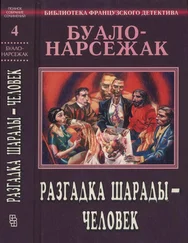
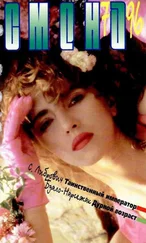


![Буало-Нарсежак - Замок спящей красавицы [Волчицы • Дурной глаз • Замок спящей красавицы • Фокусницы]](/books/424831/bualo-thumb.webp)

![Буало-Нарсежак - Из царства мертвых. Полное собрание сочинений. Том 1 [Призрачная охота, Та, которой не стало, Лица во тьме, Из царства мертвых]](/books/429663/bualo-thumb.webp)