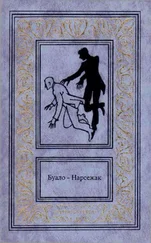— Остановимся? — спросил Реми.
— Да, — ответил дядя Робер. — Я весь задеревенел.
Автомобиль остановился под деревьями, возле пустынного перекрестка. Дядя Робер первым вышел из машины, закурил сигару.
— Ну что, сынок, не хочешь ли размяться? — спросил он.
Реми в бешенстве хлопнул дверцей: он терпеть не мог подобной развязности. Дорога слева, вся в рытвинах, вела к небольшой рощице, над которой кружились вороны. Справа виднелся пруд; высокое светлое небо было полно неизъяснимой грусти. Реми, присоединившись к дяде, немного прошелся.
— Как самочувствие? — спросил дядя.
— Нормально… вполне.
— Да, растили бы тебя иначе — глядишь, давно бы уже ходил. А то носились с тобой как курица с яйцом: «А этого не хочешь? А то подать?» Можно подумать, им удовольствие доставляло делать из тебя беспомощного неумеху. Надо было мне тобой заняться… Да вот только папаша твой, сам знаешь… Вечно тянет, все делает наполовину. Совершенный идиотизм! Нужно просто верить в жизнь.
Дядя схватил Реми за локоть и сжал так, что стало больно.
— Ты должен верить в жизнь, понял?
Понизив голос, он отвел Реми подальше от машины.
— Между нами говоря, дружок, ты ведь немножечко прикидывался?
— Как это?
— Да так. Я не из тех, кто запросто принимает на веру что угодно. Если бы у тебя на самом деле парализовало ноги, то этот субъект с чудной фамилией… как бишь его?.. Безбожьен… так вот, он мог бы до второго пришествия тебя щекотать и руками водить, а результат был бы нулевой.
— На что вы намекаете?!
— Да ни на что! «Намекаете!» — опять эта театральность.
И дядя Робер внезапно издал легкий смешок.
— Как ты всегда любил, чтобы тебя баловали! Чтобы с тобой постоянно возились. А если вдруг рядом не оказывалось юбки, за которую можно уцепиться, то начиналось хныканье. Вот и получилось, что когда ты потерял мать… Да-да, знаю, ты скажешь, что заболел раньше, чем узнал… Вот чего я никак не могу понять.
Реми смотрел на перекресток, на пруд. Он и сам не мог этого понять. И целитель не мог. Видимо, никто этого так и не понял. Реми поднял глаза на дядю.
— Даю вам честное слово — я тогда действительно не мог ходить.
— Ладно, ладно — «честное слово». Я только хотел, чтобы ты знал: я не такой простак, как может показаться. Больше того — буду откровенен с тобой до конца, — у меня и насчет отца твоего есть кое-какие подозрения. Он ведь тоже, хоть с виду и незаметно, поддерживал в тебе болезнь. И это его чертовски устраивало; он этим ловко пользовался, чтобы затушить любой наш спор. Как только я хотел предложить что-то или потребовать счета, он тут же прикидывался подавленным, несчастным и отвечал: «Потом поговорим… У меня сейчас другим голова занята… Бедный малыш!.. Надо пригласить другого врача…» И мне оставалось лишь заткнуться, дабы не выглядеть бессердечным делягой… В результате мы все скоро по миру пойдем. Все, кроме меня, поскольку, смею заметить, я все же предпринял кое-какие меры предосторожности.
Реми почувствовал, что бледнеет. «Ненавижу его, ненавижу! До чего же он отвратителен! Ненавижу его!» Реми резко повернулся и заспешил к автомобилю.
Раймонда уже сидела на прежнем месте. Клементина ждала, стоя у открытой дверцы. Какое у нее морщинистое лицо, но глазки живые, внимательно следящие за всем и всеми. Клементина переводила взгляд с одного на другого, и взгляд этот был проницательный, насмешливый, чуть ли не веселый. Когда дядя Робер сел за руль, отчего заскрипели рессоры, Клементина скривила беззубый рот и затем последней проворно заняла свое место и высохшей рукой пощупала запястье Реми.
— Я же здоров, — проворчал Реми.
Однако приходилось признать, что дядя Робер отчасти прав. Реми всегда окружали юбки: мама, Клементина, Раймонда… Стоило ему кашлянуть, как на лоб тут же ложилась чья-то ладонь и чей-то голос шептал: «Тише, мальчик мой». С одной стороны, он властвовал над всеми, с другой — все властвовали над ним. Если начистоту, то ему в самом деле нравилось, когда его касались женские руки. Сколько раз он делал вид, что ему дурно, лишь бы услышать возле себя тихое шуршание платья и корсажа, нежный голос, который шепчет: «Мальчик мой!» Как было хорошо засыпать в молчаливом окружении этих лиц, полных любви и заботы. И, пожалуй, больше всего любви и заботы можно было видеть на лице Клементины. Оно склонялось над Реми всякий раз, когда он засыпал, просыпался или был в полудреме… Застывшее морщинистое лицо, какое-то отупевшее от любви. Но как только старушка чувствовала, что на нее смотрят, она вновь становилась колкой, резкой, деспотичной.
Читать дальше
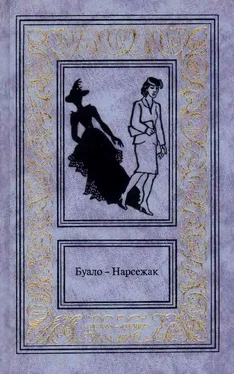


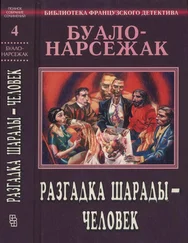
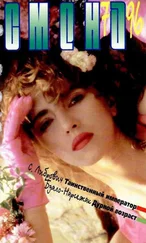


![Буало-Нарсежак - Замок спящей красавицы [Волчицы • Дурной глаз • Замок спящей красавицы • Фокусницы]](/books/424831/bualo-thumb.webp)

![Буало-Нарсежак - Из царства мертвых. Полное собрание сочинений. Том 1 [Призрачная охота, Та, которой не стало, Лица во тьме, Из царства мертвых]](/books/429663/bualo-thumb.webp)