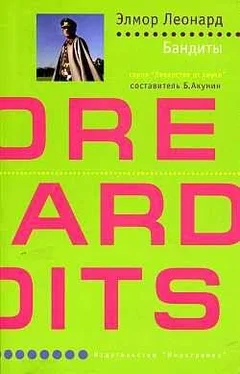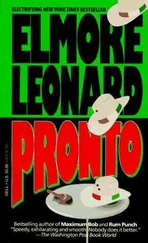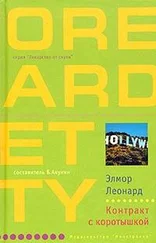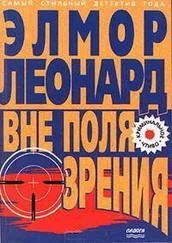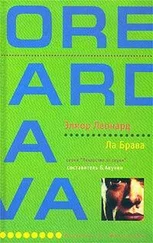— Присматриваетесь ко мне, сестрица? — сказал он Люси. — Хотите знать, зачем это я ездил в Никарагуа, а спросить стесняетесь? Одна моя родственница постриглась в монахини под именем Виргинелла. Я ей говорю, — тут Бойлан сурово нахмурился: — «С какой стати ты назвалась Виргинеллой, „маленькой девственницей“? Хочешь быть девственницей, — говорю я ей, — так будь большой девственницей, девственницей мирового класса». Видите, в чем проблема, сестра? Один ваш обет мешает другому. Она так смиренна, что не смеет громко заявить о своем целомудрии. — И новый кусочек французской булки с маслом исчез у него во рту.
— Я бы хотел кое о чем спросить, — вмешался Джек.
— Прошу вас.
— Зачем вы ездили в Никарагуа?
— Прямо в лоб, да? Я отвечу, не сомневайся, Джек. — Бойлан удовлетворенно откинулся, не выпуская из рук стеклянную кружку с пивом. — В пасхальное воскресенье, всего лишь месяц тому назад, я посетил кладбище Миллтаун. Это под Белфастом, на Фоллс-роуд, по дороге в Антрим, — пояснил он. — Мы отмечали семидесятую годовщину восстания тысяча девятьсот шестнадцатого года. Собрались под дождем в лютую стужу, чтобы почтить наших мертвых…
— Зачем вы ездили в Никарагуа? — повторил Джек.
— Спрашивай-спрашивай, на этот раз пистолета в руках у тебя нет, — усмехнулся Бойлан. — Ты славный парень, Джек, только нетерпелив, а оттого все время допускаешь промахи, верно? Сам не смог разобраться ни во мне, ни в этой ситуации, вот и привел эту красавицу-монахиню посмотреть на меня. А неуверенность в себе заставляет тебя перебивать мой рассказ как раз в тот момент, когда я пытаюсь объяснить, как я познакомился с никарагуанцами. Может показаться, — теперь он снова обращался к Люси, — будто я все хожу вокруг да около, будто я склонен к излишнему красноречию, что вообще свойственно революционерам, но я опускаю подробности. Вас интересует, что сандинисты делали в Ирландии холодным пасхальным утром?
— Что они вообще там делали? — уточнила Люси.
— Если вам кто-нибудь скажет, будто мы связаны с террористами, не верьте. Эти парни из Никарагуа — музыканты, их ансамбль называется «Герои и мученики». Они сражались за свободу, как и мы, они победили и приехали к нам, чтобы в песнях, в балладах рассказать нам о своей борьбе. Эти песни находят отклик в душе каждого человека, сражающегося за свою страну. Я был вдохновлен и решил поехать в Никарагуа вместе с «Героями и мучениками», тем более что у меня там старший брат, я его не видел почти десять лет. Скромный священник-иезуит, пасет свою паству в деревушке Леон.
Джек уставился на Бойлана. Попробуй-ка подлови этого парня, который с невинным видом попивает пиво, утирая рот тыльной стороной ладони! Он и тут, и там, он повсюду. И кузина-то у него монахиня, и брат — священник.
— Леон вовсе не деревня, — вставила Люси.
— Да и иезуиты не столь уж смиренны, — добавил Джек.
Но торжествовали они недолго. Бойлана не поймаешь.
— Все относительно, — сказал он. — Город, деревня, священник, революционеры — все зависит от того, как на это посмотреть. Теперь вот «контрас» сделались мятежниками. Каково! Эти палачи, кровавые убийцы невинных людей — мятежники! А люди, живущие в богатстве и довольстве, оплачивают их злодеяния.
На Бойлане был все тот же бесформенный пиджак в «елочку», тот же серый с красным галстук, должно быть, и рубашку он не сменил. Зачесанные назад волосы переливались в свете ресторанной люстры. Теперь он смотрел прямо на Джека.
— Джек, мы-то с сестрицей видели, как убивают невинных людей, а ты это видел? Ты видел? — Вновь откинувшись на спинку стула, Бойлан повернул голову к Люси. — Впервые это было двенадцать лет назад — через месяц будет ровно двенадцать. Я сидел в «Маллигане» за кружкой пива и услышал взрыв, этот ужасный грохот, означающий, что произошло нечто непоправимое… Я помню это по сей день, помню слишком отчетливо, что я увидел, когда вышел на улицу и завернул за угол на Тальбот-стрит. Эти крики и дым, висевший кровавым облаком.
Джек отвел глаза, стараясь не смотреть на сумрачное лицо Бойлана, но Бойлан упорно продолжал свой рассказ, и взгляд Джека вернулся к нему и остановился, прикованный к его глазам.
— И этот запах, навеки застрявший в моих ноздрях. Это не запах смерти, сколько бы ни твердили о нем, это запах человеческих внутренностей, вывалившихся наружу, валяющихся повсюду на мостовой. Какая-то женщина сидела, прислонившись к фонарному столбу, и смотрела прямо перед собой — то ли на меня, то ли в вечность, у нее не было обеих ног.
Читать дальше