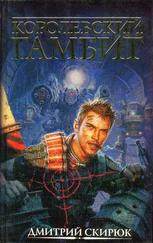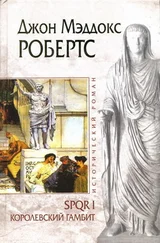Разумеется, все это было не так. У нее был только отец, и если уж на то пошло, то в доме вообще все было не так: отец, который не только сам обрабатывал землю и вел хозяйство, но делал так, что в любой момент пахарь мог запрячь рабочих лошадей и прокатить ее за шесть миль в город и обратно, а она, потонув в огромных подушках на сиденье старого экипажа, тихая, задумчивая и серьезная, напоминала старинную миниатюру, отодвигавшую на десять лет назад ее самое и на пятьдесят – ее время. Но впечатление у меня сложилось такое: детский игрушечный дом на колесах в безветренном и вневременном саду в конце багрового вонючего коридора; и вот однажды я вдруг и бесповоротно понял, что простое молчание – это еще не покой. А после того как видел ее издали три, или десять, или тринадцать, не помню уж сколько раз, я как-то утром проходил мимо стоящего экипажа, на облучке которого восседал босоногий негр, а внутри, на выцветших замызганных необъятных подушках заднего сиденья – она, словно сошедшая в неприкосновенности со старой поздравительной открытки либо с крышки коробки от конфет 1904 года выпуска (после того как экипаж отъехал, осталась видна только ее голова, а сзади и того не видно было, хотя явно лошадей выпрягли из плуга и пахаря посадили на облучок не только затем, чтобы он прокатился в город и обратно); однажды утром я остановился подле экипажа, а со всех сторон проносились, вовсю сигналя и сверкая обшивкой, новенькие автомобили, потому что война была выиграна, и все теперь будут богатыми, и воцарится вечный мир.
«Меня зовут Гэвин Стивенс, – сказал я. – И мне перевалило за тридцать».
«Знаю», – сказала она.
Но я действительно чувствовал себя на тридцать, пусть даже это было не совсем так. А ей шестнадцать. Ну как назначишь свидание ребенку (а по тем временам это был детский возраст)? Да и дальше что (в твои-то тридцать)? И ты не просто приглашаешь ребенка, ты спрашиваешь родителей, разрешат ли они. Короче, только начало смеркаться, когда я подъехал к воротам на машине твоей бабушки и остановился. Тогда там был настоящий сад, а не садовый участок – мечта цветовода. Большой, пяти или даже шести ковров не хватило бы, чтобы накрыть его целиком, с кустами старых роз и каликантов и деревьями с бесцветной листвой и покосившимися стволами на подпорках, и клумбами многолетних растений, осеменяющихся самостоятельно, без всякого постороннего вмешательства или помощи, – и она, стоящая посреди всего этого и наблюдающая, как я вхожу в ворота, иду по дорожке и в конце концов исчезаю из вида. И я знал, что она с места, где стояла, не тронется, и поднялся по ступенькам наверх, где в своем кресле из гикори, со щенком-сеттером у ног, серебряным бокалом и заложенной книгой у локтя, сидел старый джентльмен, и я сказал:
«Позвольте мне с ней обручиться (заметь, как я выразился: мне – с ней). Знаю, – сказал я. – Знаю: не сейчас. Просто позвольте нам обручиться, чтобы об этом можно было больше не думать».
И она не тронулась с места, где стояла, даже чтобы послушать. Потому что оттуда не услышишь, да к тому же ей и не нужно было: просто стояла в тени в сумерках, не двигаясь, не присаживаясь, – вообще ничего; в конце концов не кто иной, как я, подошел и поднял ее голову за подбородок, для чего понадобилось не больше усилий, чем для того, чтобы поднять ветку жимолости. Это было – как попробовать на вкус шербет.
«Я не умею, – сказала она. – Вам придется меня научить».
«Ну и не учись, – сказал я. – И так хорошо. Это даже не имеет значения. Тебе нет нужды учиться». Это было – как шербет: остаток весны и лето, долгое лето; темные вчера и молчание, обволакивающее, когда лежишь, вспоминая шербет; для воспоминаний много шербета не нужно, потому что он незабываем. Потом подошло время возвращаться в Германию, и я принес ей кольцо. Я уже сам повесил его на ленточку.
«Вы хотите, чтобы я пока не носила его?» – спросила она.
«Да, – сказал я. – Нет, – сказал я. – Неважно. Если хочешь, повесь его на куст. Это всего лишь кружок из стекла и раскрашенного металла; вряд ли протянет больше тысячи лет». И я вернулся в Гейдельберг и начал каждый месяц получать письма ни о чем. Да и о чем они могли быть? Ей было всего шестнадцать; что могло случиться с шестнадцатилетней такого, о чем стоило писать, стоило даже рассказывать? А я каждый месяц отвечал, и мои письма тоже были ни о чем, потому что напиши я о чем-то – как шестнадцатилетней разобраться в этом, как перевести? Вот чего я так и не понял, так и не выяснил, – сказал его дядя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу