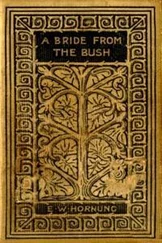– Ничего подобного, – улыбнулся Раффлс. – Я лишь испытываю вас. Что же тут худого?
– Ну, шутки в сторону. Она здесь?
– На этом столе, честное слово.
Мэкензи раскрыл портсигар и потряс каждую папироску. Раффлс воспользовался этим случаем, чтобы попросить позволения выкурить одну из них. Получив согласие, он заявил, что жемчужина лежит на столе уже гораздо дольше, чем папиросы. Мэкензи мигом схватил револьвер и стал осматривать его барабан.
– Не тут, не тут, – вскричал Раффлс, – но вы близки к цели. Пощупайте патроны.
Мэкензи высыпал их на ладонь и потряс каждый над своим ухом, но также без всякого результата.
– Ну дайте их мне!
И в одну секунду Раффлс отыскал надлежащий патрон, скусил пулю и выложил жемчужину императора на самую середину стола.
– После этого вы мне, быть может, сделаете маленькое одолжение, которое всецело в вашей власти. Капитан, я, как видите, до некоторой степени негодяй, и, как таковой, охотно готов пробыть в кандалах хоть всю ночь, раз вы признаете это необходимым для безопасности судна. Но я прошу одного – окажите мне сперва некоторую милость.
– Это будет зависать от того, в чем она состоит.
– Капитан, я совершил на вашем пароходе еще нечто, хуже того, что вы знаете: я обручился и хотел бы проститься со своей невестой.
Я думаю, мы все были в одинаковой степени поражены, но выразил свое изумление один лишь фон Гейман, прочувствованная немецкая ругань которого была первым ответом на это известие. Он не замедлил далее заявить яростный протест против такого прощания, но его мнение не одержало верха, и арестант добился своего. Он получил позволение провести с молодой девушкой пять минут, в то время, как капитан и Мэкензи будут стоят в отдалении (не прислушиваясь к разговору) с револьверами за спиной.
Когда мы двинулись толпой из каюты, Раффлс остановился и схватил меня за руку.
– Итак, в конце концов я покидаю тебя, Банни, в конце концов и после всего, что было! Если б ты знал, как мне это горько… Но тебе особенно не достанется, я даже не вижу, почему тебе хоть сколько-нибудь должно достаться… В состоянии ли ты простить меня? Разлука наша может продолжиться годы, а может быть, знаешь, и навек. Ты всегда был хорошим товарищем, когда доходило до дела, может быть, когда-нибудь тебе будет отрадно вспомнить, что ты был хорошим товарищем до конца!
Я понял выражение его глаз. Мои зубы были стиснуты, а нервы натянуты донельзя, когда я пожимал эту сильную и искусную руку, последний уже раз в своей жизни.
Эта сцена не выходит из моей памяти и не выйдет до самой смерти. Как ясно вижу я каждую подробность, каждую тень на залитой солнцем палубе! Мы плыли среди островов, которыми усеян путь от Генуи до Неаполя. Остров Эльба рисовался вдали, несколько вправо от нашего корабля, в виде пурпурного клочка со склоняющимся к нему солнцем. Капитанская каюта выходила именно на правый борт, и на этой стороне палубы, с массой света и скудною тенью, не было никого, кроме той группы, к которой принадлежал я, и худенькой гибкой фигуры, приближавшейся к Раффлсу. Обручился? Я до сих пор не мог этому поверить. Вот они сошлись вместе, но нам не слышно было ни слова, они стояли на самом солнце, и длинная ослепительная полоса света почти касалась наших ног.
Вдруг – один миг, и все было готово – и я доселе не знаю, восхищаться мне этим или досадовать. Он обнял ее, поцеловал в присутствии всех нас и разом отпихнул от себя с такой силой, что она чуть не упала. Этот поступок был предвестником другого. Штурман бросился за Раффлсом, я – за штурманом.
Раффлс мелькнул на перилах одно лишь мгновение.
– Держи его, Банни, – крикнул он мне, – держи крепче!
Пока я изо всей своей силы исполнял этот последний приказ, не соображая, что делаю, и помня лишь то одно, что Раффлс просил меня, я увидал, как его руки вскинулись кверху, голова наклонилась, и все его гибкое, сухощавое тело перерезало солнечное пространство так отчетливо и изящно, как будто он нырял для собственного удовольствия с какой-нибудь купальной лодки.
* * *
Из того, что произошло затем на палубе, я ничего не могу сообщить вам, так как меня там не было. Ни мои показания, ни долгое заключение, ни даже вечно тяготеющий надо мной позор не могут вас занимать или послужить в назидание, помимо интереса и выгоды, заключающихся в том факте, что я, наконец, получил воздаяние. Но я должен сообщить еще одну вещь, пусть верит ей тот, кто хочет.
Это произошло на правой стороне парохода, в каюте второго класса, где я был тотчас закован в кандалы, причем и дверь тщательно заперли, как будто я был вторым Раффлсом.
Читать дальше