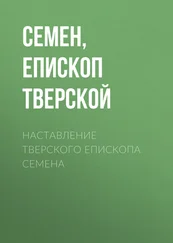— Уж очень вы отчаянная, Ефросинья Никифоровна, как моя старшая сестра. С представителем-то власти полагалось бы повежливее обходиться. Нина тоже была такая. В двадцатом году белогвардейцы расстреляли ее за то, что не давала поджигать дом крестьянина-бедняка.
— Семи смертям не бывать, а одной не миновать, — ответила Фрося. — Тихая жизнь не по мне, — она сочувственно посмотрела на Димитрия, добавила: — Трудная у вас служба-то. Подленьких людей еще хватает. Некоторые и в начальство пробрались… А что мне Саблин? Мне с ним — не детей крестить… «Видно, председатель-то сельсовета к молодой хозяйке лыжи подкатывал, обидел крепко — вот и в подлецы его записала», — отметил про себя Ковалев.
— Вот, пейте, — Фрося поставила на стол кринку с молоком. — Не хватит — еще принесу, пейте досыта.
— Спасибо, спасибо… — Ковалев не сводил с нее глаз. Фрося подсела к столу.
— Помните, вы как-то сказали, не сносить, мол, мне головы? Овдовела я рано, да ежели бы еще, тихоней безответной была, ходить бы мне с сумой. А я вот, никому не кланяясь, можно сказать, на своем горбу бревен натаскала и заднюю избенку пристроила.
Ковалев налил в кружку молока.
— Хотела я спросить еще, как мне быть? Уже две недели как я написала письмо районным властям, и вот до сей поры ни ответа ни привета. Негоже так.
— Про что же вы писали?
— Что Глебов, у проулка живет который, налог должен платить сто семьдесят пять рублей, а платит почему-то не больше полста.
— Откуда вам это известно? — удивился Ковалев.
— У финагента сама сверялась. По селу говорят, мол, откупился, шельмец. Вот оно как получается. Выходит, ни сельсовету, ни райисполкому до него и делов нет, не замечают глебовских делишек. Разве об этом можно молчать?
Ковалев вдруг поднялся из-за стола. Фрося удивленно смотрела, как он торопливо и молча надел шинель и вышел из избы, направившись в сторону конного двора. Он бежал не от Фроси — бежал от себя самого. Там, за столом, ему нестерпимо захотелось погладить ее золотистые волосы, сказать теплые, участливые слова. Но страшно не это: он мог и не удержаться, мог поцеловать ее. Выходит, товарищ Ковалев, не напрасно предупреждал тебя начальник: «Не наломай дров…» Быстров как в воду глядел, все началось-то у Димитрия именно с дров в то первое утро. Вот она какая бывает, моральная неустойчивость коммуниста. Нет, надо взять себя в руки. Придется съехать с квартиры.
Он обрадовался, что застал в конюховке Архипа. Старик обедал.
— Хлеб да соль!
— Ем да свой. Садись со мной, отведай крестьянской еды.
— С удовольствием, Архип Наумович. Давненько не видались. Соскучился: люблю с вами беседовать. Давайте-ка поболтаем о том о сем.
Разговор и вправду получился о многом — и о хорошем, и о плохом. О том, какие виды на урожай в нынешнем году, скоро ли направится колхозная жизнь. Архип пожаловался, что не хватает сбруи, что надо строить новые конюшни. Одним словом, надо латать дыры. Ему сразу пришелся по душе молодой, но степенный уполномоченный. Сына бы ему такого, обходительного да умного.
— Эх, пропустить бы ради встречи по маленькой не мешало, да ведь ты не пьющий. Да и я раз в год пью, да и то с оглядкой. Палаша-то у меня добрая и сердечная, вот только выпить ни в жисть не даст. Пузырька малюсенького в дом не принашивал, ехидное дело. Намедни первача бутылочку раздобыл, думаю, выпью с устатку. Ан нет, не вышло: ну-де, тебя к лешему — и всю как есть в лоханку выплеснула. Разве не обидно — зубы пополоскать не оставила, ехидное дело. Меня, что ли, от этого зелья уберегает? Сама-то она маковой росинки в рот не берет. Как только она не отучала меня от этого попервости. Бывало, выльет вино-то из посудины, а вместо него керосину нальет туда, либо другой какой жижи, чем клопов, либо тараканов морят. Меня с этого продукту, бывало, три дня выворачивает. Как-то ночью проснулся, голова трещит, разваливается. Не доживу, думаю до утра, ежели не распохмелюсь. И вдруг смотрю, за шторкой на окне бутылка, вроде бы самогоном пахнет. Обрадовался я, ну, и хватил из горлышка. Как будто полегчало, заснул. Просыпаюсь от одышки. Батюшки! Как на Северном полюсе — весь в белом, как есть в снегу, а из роту и носу, как из пожарной кишки, белая пена идет и мягко так на постель, ровно покрывало из лебяжьего пуха, ложится. Испужался я, да и ее, сердешную, до смерти напугал. Вот и промыл потроха свои. А она мне и говорит — жидкое-то мыло к употреблению внутрь негоже.
— С тех пор и не пьете? — давясь от смеха, спросил развеселившийся Ковалев.
Читать дальше
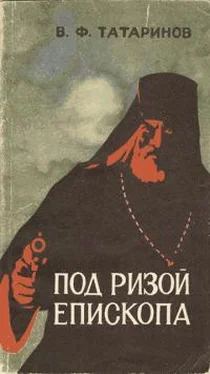


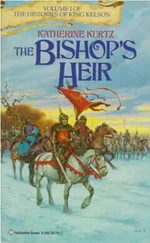
![Стивен Ван Дайн - Злой гений Нью-Йорка [Дело Епископа]](/books/345560/stiven-van-dajn-zloj-genij-nyu-thumb.webp)