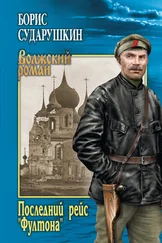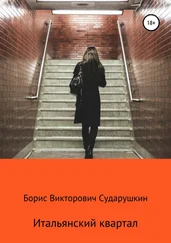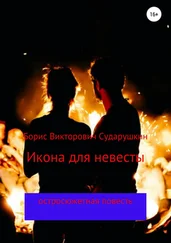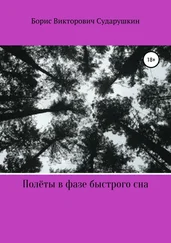– Вы забыли о князе Курбском. Пожалуй, из всех современников Грозного этот русский князь оставил самый полный, самый объективный портрет царя-деспота.
– Изменник не может дать объективную оценку тому, кого он предал!
– Курбский верно разгадал преступную натуру царя.
– Не понимаю, к чему вы вспомнили беглого князя? – фыркнул Пташников.
– Судьба Курбского предварила трагедию царевича. Сначала полное доверие царя, потом необоснованные подозрения и вспышка гнева. Андрея Курбского спасло от смерти только бегство.
Параллель между судьбами князя и царевича показалась мне любопытной, но тут Пташников желчно произнес:
– Кстати, у Андрея Курбского на границе отобрали мешок, набитый золотыми дукатами, серебряными талерами, московскими рублями. Ясно, что это было вознаграждение за предательство.
– А правильно ли будет назвать бегство Курбского предательством? – задался вопросом Окладин. – В то время переходы от одного сюзерена к другому были весьма распространены. Кроме того, в своих письмах Курбский совершенно справедливо упрекал Грозного в страданиях русского народа, в бессмысленной жестокости и политической нерадивости.
– Это было самое настоящее предательство, нечего защищать Курбского! – возмущенно заявил Пташников. – Он предал не царя, а весь русский народ. Об этом красноречиво говорят его поступки после бегства: выдал всех тайных агентов Москвы при королевском дворе, посоветовал королю натравить на Русское государство крымских татар, сам участвовал в военных походах и даже просил у короля армию, чтобы взять Москву. Обелить Курбского невозможно, хотя такие попытки и делались. Он и переписку с царем затеял, чтобы только оправдаться. Но к предателям русский народ всегда относился с презрением.
Тут я был целиком согласен с краеведом, однако сама по себе история переписки Грозного с Курбским показалась мне странной. Как она смогла сохраниться? Кто был заинтересован в ее распространении? Царь? Но с какой стати он заботился бы о популярности князя-изменника, который в своих письмах обвинял его во всех смертных грехах? Курбский? Однако была ли у него такая возможность? Наконец, каким образом он доставлял свои послания Грозному?
Все эти вопросы я обрушил на краеведа. Он начал с ответа на последний из них:
– По легенде, первое послание Андрей Курбский отправил со своим слугой Василием Шибановым. Об этом рассказано в записи конца семнадцатого века в Степенной книге – якобы Шибанов вручил письмо царю на Красном крыльце царского дворца. Иван Грозный «осном» – жезлом – пробил гонцу Курбского ногу и так продержал его, пока не выслушал все письмо до конца. Однако вряд ли так было на самом деле.
– Почему? Сцена выглядит правдоподобно, соответствует характеру и натуре Грозного.
– Есть летописное свидетельство шестнадцатого века, что Василий Шибанов сразу после бегства Курбского был схвачен возле Юрьева. Нашлась записка Курбского, в которой он просит вынуть хранившиеся в какой-то избе, под печью, его писания в столбцах и тетрадях – «И вы то отошлите любо к государю, а любо ко Пречистой в Печеры». Можно предположить, что эту записку привез Шибанов, а когда его поймали, он рассказал о тайнике с бумагами.
– Каким образом царь получил следующие письма князя?
– Исследователи отмечали, что самые полные тексты посланий сохранились в сборниках, составленных вероятней всего в Печерском монастыре. Кроме собственно переписки Грозного с Курбским в этих сборниках находятся послания князя старцу Печерского монастыря Вассиану, письма других беглецов из России. Можно предположить, что Курбский через Печерский монастырь пытался пропагандировать свои взгляды на происходившие в стране события и взгляды своих сподвижников, близких ему людей.
– А как в этих сборниках могли оказаться письма Грозного?
Пташникову приходилось буквально отбиваться от моих вопросов:
– Уже высказывалось предположение, что послания Грозного попали в эти сборники из «царской канцелярии» в двадцатые годы семнадцатого столетия, чтобы «противопоставить писаниям изменника Курбского концепцию Грозного» – такой вывод сделал выдвинувший эту версию академик Зимин. Поэтому переписка и сохранилась только в списках семнадцатого века.
– И все равно, есть в этой переписке какая-то странность, – после паузы опять заговорил Окладин. – Еще Костомаров выражал недоумение, зачем царь отвечал Курбскому. Ключевский тоже подчеркивал странность переписки и называл ее «спором глухих» – ведь по существу Грозный в своих посланиях не ответил ни на один из вопросов Курбского. «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» – спрашивает Курбский, а Грозный невпопад заявляет: «Нет, русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
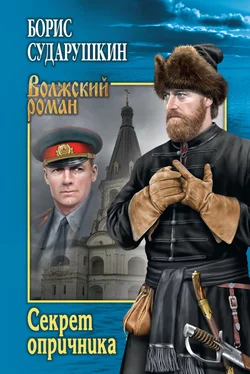
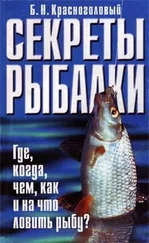
![Борис Сударушкин - По заданию губчека [Повесть]](/books/388641/boris-sudarushkin-po-zadaniyu-gubcheka-povest-thumb.webp)