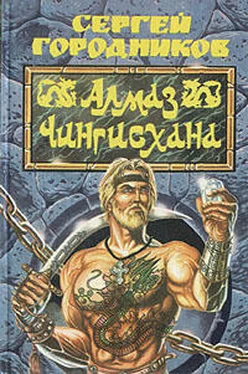Сергей ГОРОДНИКОВ
Алмаз Чингиз-Хана
К рест! — с сухим хрипом в надрывном голосе вскрикнул беглец и очнулся, все еще содрогаясь от переживания бреда. В бреду, он отчётливо видел кровавый разлив света и чёрную тень большого креста! Тень эта наводила ужас, — как живая тварь, неотступно двигалась за ним, загоняла к обрыву в мрачную пропасть, и нигде не было от неё спасения!
Много дней и ночей ему удавалось спать лишь урывками; голова словно горела, воспалённые глаза слезились, а мысли рвались на части, приближая его к безумию. Как у загнанного в ловушку зверя, до предела обостренным слухом он расслышал, что у развалин снаружи безлюдной крепости остановился преследующий его отряд — сотня личной тысячи Чингисхана. Он затрепетал, когда вдруг вспомнил: на этот раз бежать некуда. Он сжался в самом темном месте недавно разрушенного храма и тихо заплакал, — давно уже его покинули силы разума и желаний оставаться мужчиной. Он был всего лишь одичалым заросшим существом в грязи и лохмотьях, почти животным. Он не желал продолжать так жить и дальше. Но и смерти страшился как никогда прежде.
Если бы только он не напился в том кишлаке, не показал проклятую, из чистого золота, плашку, они бы его след потеряли… Проклятая, проклятая плашка; если бы ни она, — она прямо тянула его за язык болтать и хвастаться; если бы ни она… И он умолял всех богов, каких припомнил, дать ему возможность выжить, надеясь, хотя бы один из них окажется покровителем разрушенного монголами храма и захочет отомстить. Он поклялся им принести жертву, избавиться от плашки, не сходя с места.
Отряд между тем кучно стоял у входа в развалины, и никто не решался двинуться к обгорелым воротам. Сам Великий Хан проклял крепость, под которой пал его конь. Наконец тысячник, что был во главе отряда, без слов, плетью указал ближайшему десятнику проехать внутрь крепости. Тот не сразу решился, мысленно прикидывая, чье наказание страшнее, и тронул коня медленно, с опаской. Но только всадник оказался под сводами ворот, они рухнули на него, грохотом камней заглушив его предсмертный крик. Под испуганное ржание коней остальные всадники в сутолоке отпрянули. Они стали неподвластны приказам тысячника, подчиняясь лишь Священному Страху варваров перед наглядно проявившим свою карающую силу проклятием Бессмертного.
Приближалось лето 1651-го года. Яркое солнце ежедневно сияло над Бухарой, в которой зелень и цветение украсили сады и наполняли свежий по утрам воздух запахами душистой весны. Казалось, именно эта душистая свежесть по утрам, а не крепкие стены городской цитадели привлекали караваны с товарами со всего Среднего Востока. Приезжих было много, почти, как во времена, когда город процветал на Великом Шелковом Пути. И как в те славные, давно ставшие главной сказкой Востока богатые времена, все улицы и улочки города вели и жителей и гостей к базару. Теперь город не процветал. Но и столетия упадка оставил позади, снова манил купцов удобным расположением и наследственной любовью к шумной и разноязычной торговле любыми товарами, которые приносят какую-либо прибыль. И даже стал основным местом торговли людьми в этой части Азии, имея рядом с бойким и красочным базаром доходный рынок рабов.
В один из последних майских дней через пёструю толчею бухарского городского базара пробирался щеголеватый на русский манер дворянин Иван Мещерин. Одежда и тщательно остриженная каштановая бородка показывали, что он прибыл не сам по себе, а посланцем из Московской Руси с неким важным делом, и был близок ко двору просвещенного молодого царя Алексея Михайловича, открытого западным европейским веяниям и желающего, чтобы подданные его не столько боялись, сколько любили. Царь писал дельные наставления по благородной соколиной охоте, но хаживал и на медведя, приобрёл страсть писать длинные письма и плохонькие стихи, и карие умные глаза Мещерина, доброжелательное подвижное лицо выдавали в нём образованного на такой же лад здорового и сильного от природы человека.
Мещерину было около тридцати, и он с искренним любопытством впервые оказавшегося на Востоке русского, высматривал неизвестные ему товары и нравы, но иногда прищуривался и мгновения зорко наблюдал за всем, что его окружало. Следом за Мещериным, стараясь не отставать, но и не упустить из виду ничего занимательного, шел бывший при нем подьячий московского Посольского приказа, чьи смышленые глазки выдавали ум скорее изворотливый, нежели любопытствующий. Подьячему было немногим за сорок, и белым мелком он на доске в левой руке делал какие-то заметки, — для себя ли, для дела, было неясно. Мещерин часто приостанавливался, тогда приставленный для сопровождения и надзора соглядатай эмира что-то разъяснял, иногда наклоняясь к самому его уху. На каждое замечание Мещерина он кланялся и улыбался, показывая всем своим видом безусловную готовность оказывать любую услугу посланнику великого царя.
Читать дальше