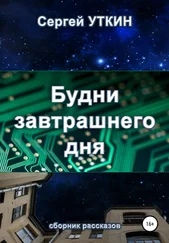— Это еда пастухов, — объяснила Дора. — Они берут ее с собой в горы. Обычно пастухи остаются там на всю зиму.
— Как это кушанье называется?
— Каварма. Каждый раз, когда я приезжаю в Ливан, моя тетя готовит котелок или два. Это совсем несложно сделать.
— О! Вот прекрасное определение для любви! — с воодушевлением произнес Анри, кладя на стол салфетку. — Это именно то, что совсем несложно сделать!
Анри и Дора провели четыре дня в квартире с высокими потолками, никуда не выходя. В разговорах часто возникала одна и та же тема: что они скажут другим? И скажут ли что-нибудь?
Наутро пятого дня Дора встала и оделась.
— Мне нужно ехать на работу.
Некоторая неловкость возникла между ними в тот момент, когда она попросила Анри уйти до того, как она вернется.
Но Дора также попросила, чтобы перед этим он еще раз доставил ей удовольствие, и он повиновался с четкостью настоящей секс-машины, в которую превратился за эти дни.
Сильвия Деламар и оба ее помощника сидели на своих обычных местах за длинным столом в прокуренном кабинете для совещаний.
— Нужно будет обратить особое внимание на костюмы, — говорил Анри. — До Революции вещи порой служили владельцам всю жизнь, во всяком случае, гораздо дольше, чем сейчас. Их чинили, подновляли. Какой-нибудь плащ или накидка могли прослужить целый век, если не два. Богатые люди отдавали вышедшую из моды одежду своим слугам, а те, по прошествии еще нескольких лет, передавали ее мелким торговцам или ремесленникам, жившим по соседству. Ну а те еще лет через двадцать отдавали ее беднякам. Поэтому в городах, особенно в Париже и Версале, можно было наблюдать круговорот моды последних двух веков, от эпохи Людовика XIV до Регентства, в котором мелькали английские, турецкие, испанские одежды. Причудливее всего были одеты дети — у них всегда был такой вид, будто они собрались на карнавал. Но весь этот маскарад прекратила Революция, точнее, экономический кризис, который ее сопровождал: богатым людям больше нечего было отдавать, а тем, что были беднее, пришлось самим шить себе одежду из самых дешевых тканей. Один и тот же материал, один и тот же фасон, одинаковая расцветка, чаще всего в полоску, словно у каторжников, — и вот то, что вначале было суровой необходимостью, к 1791 году превратилось в принцип, стало знаком принадлежности к «правильному» классу. К революционному снобизму добавились политические требования; одежда получила название революционной песни — карманьола превратилась в эмблему санкюлотов. Изобретение единого для всех костюма нивелировало классы до полной неразличимости. И вот на основе этого своеобразного кокетства выстроили наиболее губительную политическую концепцию — учение о «пролетариате». Путь к социальной войне был открыт.
— Вы, я смотрю, очень хорошо подкованы, Анри!
— Я также много думал о статистах. Статисты — это главная болезнь французского кино! Единственное лекарство, на мой взгляд, — снимать в обычной современной обстановке. Поставить гильотину на площади Согласия, не меняя ничего вокруг, и прямо так и снимать, среди автомобилей.
— Ну, это уж слишком!
— Да, именно так! Устроить сад для юного дофина прямо на террасе Тюильри. И сцены в Тампле тоже снимать прямо в сквере Тампля, какой он сейчас, напротив мэрии. Актеры будут в костюмах XVIII века, а вместо статистов будут обычные прохожие, зеваки, туристы — пусть щелкают своими фотоаппаратами из-за ограды…
— Не скрою, меня немного пугает эта идея.
— Меня тоже. Но что вызывает у меня глубокое отвращение, так это идея обычного исторического «костюмного» фильма, с картонными декорациями, вылизанными улицами и толпой статистов — которых вечно не хватает, — чтобы кричать фальцетом: «Смерть королю!» Вместо этого лучше уж снять студенческую демонстрацию протеста. Студенты, по крайней мере, умеют кричать как следует, к тому же протестуют искренне — им действительно хочется сокрушить нынешний режим. Они возмущаются не за деньги. Достаточно будет провезти королевскую карету мимо одной из таких демонстраций — и вот увидите, молодежь будет танцевать «Карманьолу»! Представьте себе Людовика XVI перед пирамидой Лувра, и с ним — юного дофина, такого хорошенького: они идут впереди свиты, похожей на армию в миниатюре, и останавливаются, чтобы пропустить автобус девяносто пятого маршрута. Потом ребенок возлагает цветы к подножию мемориала на площади Карусель. Зеваки с умилением наблюдают за ним, они не знают, что за фильм снимается. Но когда им говорят, что это Людовик XVII, когда им объясняют, что невинная кровь этого ребенка напитала корни наших побед, они меняются в лице.
Читать дальше

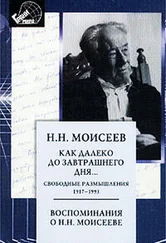



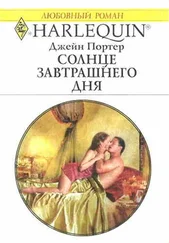

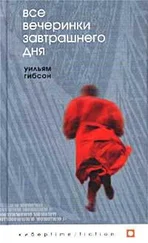

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)