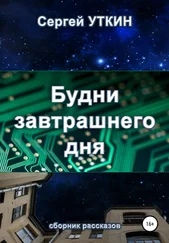Кое-как Эбер добрался до дома, заперся в своей комнате и провел там три дня, отказываясь принимать пищу и разговаривать. Он лежал на кровати, глядя в потолок и строя планы мести.
Через три дня он встал, пошатываясь от голода, вырвал из тетради несколько листков и написал следующее:
„Это — призыв к отмщению за все те низости и пороки, до каких только может опуститься человек! Это — публичный протест и жалоба невинно угнетенного! Жиль де Клуэ (как говорят, маркиз) и Ролан Массар, расстрига, лишенный сана, в придачу к своей общеизвестной репутации развратников заполучили и репутацию убийц. По этой причине, а также в целях общественной безопасности, вышеназванные Клуэ и Массар объявляются недостойными любого человеческого общества, и им запрещается доступ во все те места, где можно найти честь, разум и человечность. Виновным приказывается соблюдать этот запрет под угрозой быть сосланными к диким зверям, чей нрав сходен с их собственным характером. Кроме того, им предписывается навсегда покинуть этот город и его окрестности, где их злодеяния отныне известны всем“.
Эбер переписал это воззвание во множестве экземпляров и везде пририсовал наверху эмблему из скрещенных окровавленных ножей.
Дождавшись ночи, он вышел из дома и развесил листки повсюду — прежде всего на дверях церкви и мэрии, а также на рыночной площади.
Он даже не позаботился о том, чтобы изменить почерк, настолько был горд своей выдумкой. Конечно, он не рассчитывал, что жители Алансона, прочтя его обвинения в адрес маркиза и попа-расстриги, повесят тех на виселице, но надеялся, что горожане по крайней мере над ними посмеются, и он будет отомщен. Он уже догадывался, что насмешка может быть действеннее, чем любые законы.
Но получилось совсем не так.
На следующее утро к мадам Эбер явился комиссар полиции с одним из листков в руках и объявил, что маркиз де Клуэ требует три тысячи ливров в виде компенсации за моральный ущерб и к тому же хочет, чтобы приговор виновному был напечатан в количестве одной тысячи экземпляров и распространен по всему городу. В случае отказа ответчика платить истец требовал для него телесного наказания. Жак-Рене отрицал свое авторство, но мадам Эбер, узнав почерк сына, побледнела.
Комиссар потребовал возмещения ущерба. Виновность подростка не оставляла сомнений: почерк на листках сличили с тем, которым были написаны его письма мадам Коффен. Развратница-аптекарша его выдала.
Мадам Эбер, вдова председателя коммерческой палаты, не выдержала такого позора — у нее случился обморок или припадок, что-то в этом роде.
Она хотела отвезти сына в Сен-Флоран и омыть его в священном источнике, как раньше, когда Эбер был маленьким. Она надеялась, что произойдет чудо. Но он отказался.
— Ты ничего не понимаешь, — заявил он матери.
Однако мадам Эбер не оставляла попыток спасти сына.
Она отправилась к судье, а потом — к месье Коффену, аптекарю, которого просила повлиять на жену, чтобы та, в свою очередь, упросила маркиза забрать из суда свою жалобу.
— С чего я должен это делать? — удивился месье Коффен.
— Сделайте это хотя бы в память о моем муже.
— Вы уверены, что ваш сын его достоин?
Мадам Эбер ходила в церковь и говорила с кюре, а заодно с местными святошами из прихожан, но те лишь сильнее злобствовали. Все ее старания вызвали в итоге настоящий шквал возмущения в отношении ее сына. Наивысшей точки негодование достигло, когда стало известно, что Эбер продолжает строить куры аптекарше и пишет ей стихи и серенады, причем в еще больших количествах, чем прежде. Это было слишком.
В конце концов, Эберу был присужден штраф в одну тысячу ливров, вместо первоначальных трех, а также он должен был оплатить напечатание и распространение тысячи экземпляров собственного приговора. Учитывая все обстоятельства дела, решение суда можно было счесть милосердным. Однако семья Эбера подала апелляцию. Дело отправилось в Кайен, где его должны были пересмотреть по прошествии года.
А Эбер тем временем полностью отдался сочинению стихов, но теперь уже бунтарских. Он захотел добиться известности во что бы то ни стало и вовсю паясничал в алансонском кабачке.
Это может стать началом фильма: Эбер кривляется на крошечном помосте кабачка в женском платье и парике, изображая беременную Марию-Антуанетту, с огромным колышущимся животом. Зрители умирают от смеха.
Но Артуа улучил момент —
И Антуанетта, побежденная,
Наконец-то чувствует, как это приятно,
Когда тебя как следует отымеют.
Читать дальше

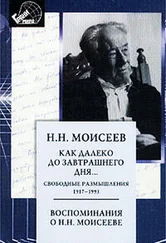



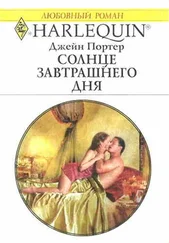

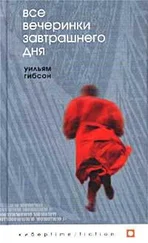

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)