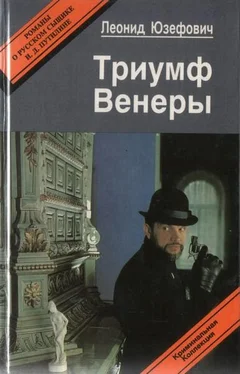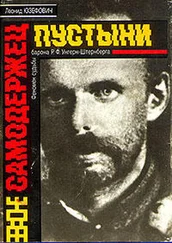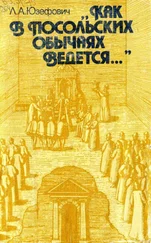— Ты, брат, мне такие страшные обвинения предъявил, — терпеливо сказал Иван Дмитриевич, — что изволь представить доказательства.
— Я на ней вчера гвоздиком нацарапал, что моя.
— Ну-ка, иу-ка…
Когда сын удалился с гордо поднятой головой, как парламентер, принявший вражескую капитуляцию, Иван Дмитриевич в блаженном изнеможении откинулся на подушку. Теперь он понимал многое, почти все, и готов был во всеоружии встретить завтрашний день.
Жена воровато заперла за Ванечкой дверь спальни, вернулась, на ходу расстегивая свои крючочки, склонилась над постелью. Иван Дмитриевич еще успел увидеть, как новенькая рубашечка нагрузла ее грудями, потом в голове зазвенело, закружились перед глазами Каллисто с Аркадом и Ликаоном, аббат Бонвиль, масоны, волки, медведи, Жулька с красным зонтиком, понеслись и пропали в подступающей тьме.
— Ваня! — позвала жена.
Он спал.
29
Иван Дмитриевич с женой присутствовали и на отпевании в церкви, и на кладбище, и, когда гроб опускали в могилу, он подумал о Марфе Никитичне. В счастливом неведении она сейчас плыла вдоль нищих, затянутых рыбачьими сетями чухонских островов. Дальше — Неметчина, Франция, Шпанское королевство. Где-то застанет ее девятый день по смерти сына? А сороковой? В этот день Якову Семеновичу последний раз поставят тарелку, положат ложку, нальют вина, чтобы на прощание посидел как хозяин за домашним столом. Вспомнит ли мать о сыне, глядя, как за белыми скалами Гибралтара сияет средиземноморская синева? Услышит ли в крике чаек его голос?
Уже шли обратно к воротам кладбища, как вдруг Шарлотта Генриховна, оттолкнув своих провожатых, поддерживавших ее под руки, бросилась к племянницам, обняла их, крепко притиснула к себе и друг к другу.
— Катюша! Лизанька! Обещайте, что если я умру, вы будете любить Олюшку!
За деревьями горели костры. Там жгли палую листву.
— Она ваша сестра! Если я умру, — плача, просила Шарлотта Генриховна, — обещайте мне, что вы всегда-всегда будете любить ее! Катюша! Лизанька! Девочки мои…
После того, как мертвый навеки остался в земле, у живых наступает облегчение. Гости группами подъезжали с кладбища и разбредались по квартире в ожидании того момента, когда их пригласят к поминальному столу. Всюду слышались возбужденные разговоры. Болтали о чем угодно, только не о Якове Семеновиче, иногда звучал приглушенный смех, стыдливо смолкавший при появлении кого-нибудь из родственников покойного. Собрались почти все соседи, даже Гнеточкин с супругой. Очевидно, Шарлотта Генриховна отпустила ему старые грехи. Не было лишь Нейгардтов: они предупредили, что с похорон зайдут домой переодеться.
Мадам Зайцева, сидя на диване в гостиной, одаривала всех входивших в комнату мужчин лучезарными улыбками, словно это был ее праздник и она тут главное действующее лицо. Некоторым протягивалась рука для поцелуя. Иван Дмитриевич тоже этого не избежал.
— Так не скажете, где вы купили ваш зонтик? — спросил он, прикладываясь к ее пухлым пальчикам.
— Я вам уже ответила. В Париже.
Чуть заметно улыбнувшись Ивану Дмитриевичу, она обратилась к его жене:
— Какое, милочка, на вас чудное траурное платье.
Жена смутилась, поскольку платье принадлежало теще и лет пятнадцать, после каких-то важных похорон, пылилось в сундуке.
— Чудное, просто чудное! — продолжала Зайцева, наслаждаясь ее смущением. — Я узнаю этот фасон. В юности у меня было такое же, только серое. Боже мой, как летит время! Я тогда носила мою старшенькую.
Неподалеку ее муж объяснял двум старым девам с четвертого этажа:
— Для того нам от казны квартирные деньги и даются, чтобы с женами жить…
Оставив на их попечение расстроенную, робеющую жену, Иван Дмитриевич отправился искать Евлампия. Тот сидел в кухне и что-то ел, что ему вперемешку подкладывали на блюдо распаренные стряпухи.
Без всяких запирательств он признал выложенный перед ним на стол конец веревки с кровавыми пятнами: да, сразу поленился отмыть, пришлось отрезать. Не выбрасывать же весь моток? Веревка хорошая, корабельная, голландского витья.
— Жулька-то, — сказал Иван Дмитриевич, — жива.
— Поправилась, значит. Я ее давил, да недодавил. Сердце дрогнуло, как она визжать стала. Так жалобно!
— А врал зачем?
— Думал, барону скажете, — повинился Евлампий, — он у меня пять рублей назад и отберет. Вы уж не сказывайте. Жулька теперь пуганая, днем на улицу носа не кажет.
В отместку Иван Дмитриевич спустил прямо ему на блюдо веревочный хвост и пошел обратно. В коридоре достал табакерку, заложил в ноздрю табачок. Совестно было в этом доме зажигать трубку. Он уже почти прочихался, когда кто-то сзади взял его под руку. Иван Дмитриевич посмотрел через плечо и увидел Куколева-старшего.
Читать дальше