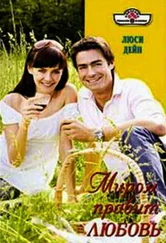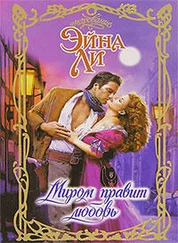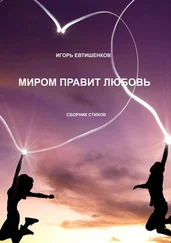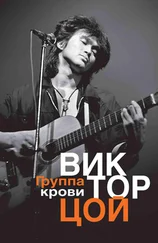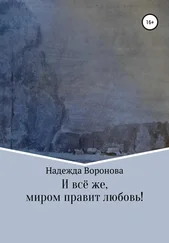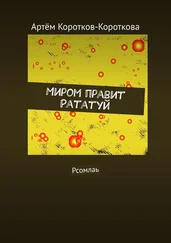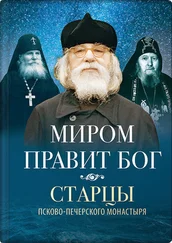— Все ясно, — заткнул «чертового интеллектуала» Прищепкин, так как Швед начал его доставать, — это борьба между «Тампаксом», или кого там еще, «с крылышками» и отпочковавшегося от него «Тампакса» с дезодоратором. Но ты даже не дал договорить Леше, а лично мне его версия кажется более осмысленной. Мое предложение: выпить и дать ему выговориться до конца.
— Да, Сашок достаточно верно оценил нынешнее положение христианства, — сдержанно продолжил Бисквит, любуясь зрелищем пышного южного заката. — Оно плачевно: западники зажирели, восточники спились. Поэтому в самом ближайшем будущем христианский мир столкнется с очень серьезными проблемами. И это не пустые слова, от которых можно отмахнуться, не кликушество, которое любят изобличать так называемые литераторы Садового кольца. Тем не менее, менталитет христиан формировался под воздействием характера их религиозных обрядов, а не в результате рекламных компаний «Пепси–колы». Христианству две тысячи лет, а «Пепси–коле» сколько?.. То–то же! Поэтому любая деталь обрядов постепенно «наработала» столько, что стала как бы вехой, контурной точкой формирования национального характера. Ведь еще недавно люди не знали пепси, зато по несколько раз в день молились. В общем, западные христиане в первую очередь отличаются от восточных тем, что у них отношения с Богом чуть ли не панибратские: ведь протестантские службы скорее напоминают концерты художественной самодеятельности. То есть для западника Бог кто–то вроде старшего брата — спелись–таки, — который видит тебя насквозь и обмануть которого поэтому невозможно. Характер этих отношений по инерции еще довлеет над всеми видами отношений в западном обществе. Поэтому отношения между индивидом и государством на Западе вполне доверительные. То есть государство не стоит над ним с палкой, а тот в свою очередь не считает делом чести его надуть. Для такой схемы демократия–то — игра джентльменов — единственно и хороша. Теперь попробуем охарактеризовать обрядность православную. Кем является Бог для православного верующего, братом?.. Как бы не так. Лично мне он больше напоминает нашего школьного учителя по–немецкому. В принципе, нормальный был мужик, но как же мы его боялись — словами не передать. Потому что по прежним программам продвигаться в изучении языка было невозможно. Хоть сто лет занимайся, а все равно твои знания так и останутся на уровне пятого класса. Это сейчас я на трехмесячных курсах наблатыкался в немецком больше, чем за пять лет в школе и три в институте. Но Дмитрий Константинович все равно был очень требовательным. А что ему оставалось? И уж на джазовые–то концерты его уроки точно не походили. Скорее на строевые занятия в моравском полку австро–венгерской армии: новобранцы сплошь деревенские, ни слова по–немецки не понимают, а фельдфебели что–то орут в бешенстве… На солдат находит столбняк. Хоть расстреляй их на месте, но ни одной команды все равно не выполнят. Почему у меня такая ассоциация нехорошая? Начнем с того, что церковные службы ведутся на старославянском: улавливаешь только некоторые слова. Сидеть нельзя и после часа неподвижного стояния на одном месте невольно начинаешь думать только об одном: скорей бы служба кончилась. В результате дистанция между Богом и православными ощущается ими, как очень длинная. Какое уж тут братство? Бог для православного судья, учитель. И как он с ними обращается, выходя за церковные ворота?.. С легкостью идет на обман. Ведь ни тот, ни другой даже не родственники, чего с ними церемониться?
Все внимательно слушали.
— Мракобес и ретроград! — рубанул Швед.
— Возможно, — недобро ощерился Бисквит. — Зато не дурак.
— Леш, ты что, сам до этого допер? — почесывая лоб, спросил Прищепкин.
— Нет, конечно. Эта мысль словно прописана между строк в трудах многих русских философов, начиная с Бердяева. Она давно витает в академических, интеллектуальных кругах, но открыто высказывается крайне редко — ересь, крамола. Лично я в сформулированном виде впервые прочел ее в мемуарах Андрона Кончаловского… К сожалению, у нас не было своего Лютера. К еще большему сожалению, нашу церковь подмяло под себя государство при Петре Первом. К чему это привело? К тому, что характер отношений между Богом и православными верующими распространился повсеместно. Государство дурит обывателя, обыватель — государство. Никто ни перед кем не чувствует никакой ответственности. Государство вынуждено держать обывателя в ежовых рукавицах. О какой демократии может идти речь? При демократии в православных странах распоясавшийся обыватель неминуемо победит государственный аппарат. И тот рухнет, словно карточный домик, погребя обывателей под своими обломками. Все накопленное за века национальное богатство неминуемо растащится. В условиях свободы печати все духовные ценности народа журналистами непременно оболгутся. Причем просто так, только ради красного словца, поддержки тиража издания вымышленной сенсацией, гонорара. Православная страна в условиях демократии это скорпион, который жалит сам себя. И вполне может убить. Ведь еще одной чертой православного общества является неуклюжесть и неповоротливость. Покаа расшевелится… Очень тяжело оно на подъем, косно, в нем отсутствует ротация. Поэтому смена векторов в обществе происходят не методом постепенной эволюции, а с помощью революций и ломок.
Читать дальше