Поезд мягко подкатил к перрону Московского вокзала, историки стали собирать вещи.
— Вы, пожалуйста, поаккуратнее, Сева, — сказал Татарников на прощание. — Миссия у вас, конечно, государственная. Но и государственное дело можно исполнять, соблюдая приличия. Хотя, — задумчиво добавил историк, — это непросто. Вот об этом мы и будем сегодня рассуждать на примере древних обществ.
— Предупреждаю, я буду настаивать на принципе двоичности! — сказал Волобуев. — Народ и правительство, бизнес и прогресс, вера и власть.
— Водка и огурец, — добавил Татарников. — Что действительно приятно, дорогие коллеги, так это то, что вечером опять сядем на поезд. Если к вам попадем, Сева, вы уж мои штаны не трогайте, ладно? Государева служба — понимаю, но мои штаны оставьте в покое. Обойдется государство без моих штанов.
Мы вышли на перрон, вдохнули сырой питерский воздух, один лишь доцент Волобуев задержался в тамбуре, и я услышал обрывки его разговора с Севой.
— А странички-то мои где?! — кричал Волобуев. — Странички из органайзера! Украли рукопись — так верните!
— Нету их у меня, — басил Сева.
— Штаны вернули, очки вернули! Рукопись теперь верните!
— Не могу вернуть, простите.
— Как это?! — ахнул Волобуев. — Передали по инстанции?
— Так не довез я странички до станции, туалетная бумага у нас в вагоне кончилась.
— Что?! — и судорога исказила черты Волобуева. — Вы подтерлись планом преобразования России?!
Ничего не ответил проводник поезда «Москва— Петербург». Стоял Сева смущенный, глядел в сторону.
— Подтерлись… Вы хоть заглянули в странички? Вы хоть помните, про что там было написано? — Ну, посмотрел… Невнимательно, конечно… Сами понимаете, вагон качает, сидишь на корточках…
— Эх! — за голову схватился доцент. — Люди российские! Вы хоть скажите — там про земства было?
— Вроде было, — почесал затылок Сева, — а может, не было… Нет, не заметил… Занят был.
Мы приехали на место происшествия — Гена Чухонцев, следователь, и я, репортер. Тряслись два часа по колдобинам, но все же дорулили до тихой заводи — река Клязьма делает здесь волшебный изгиб, образуя укромнейшую заводь, скрытую от глаз. Да и откуда взяться глазам — никаких соглядатаев тут быть не может. Так, пара деревень окрест, да уж практически вымерли те деревни, кто там остался? Безумные бабки да спившиеся подростки, и те наперечет. Кривые домишки, гнилые бревнышки, сорняки в огороде; тоска, обыкновенная русская тоска. И сетовать не приходится, что доживают эти деревеньки свой век, — всему приходит конец. Скоро снесут на погост бабок, сопьются мужики, заколотят их в гроб, зарастут лопухами хибары — и все, поминай как звали русскую деревню.
Вот с другой стороны реки, там да, угодья лучших людей страны, такие стоят замки, что раз увидишь архитектуру — уже не забудешь, сниться станут те сооружения. Там у них заборы по четыре метра высотой, корабельные сосны по сорок метров, хоромы в шесть этажей. Но на этих угодьях и вовсе некого найти, чтобы смотрел на реку, — некому здесь любоваться водными просторами, хозяева появляются редко. Живут они большую часть года в Монако или на Багамах, а сюда, на Клязьму, наведываются не часто — а может, и вовсе никогда. Ну что здесь, в сущности, делать? Комаров кормить? Водку пить под соснами? Конечно, к месту работы — то бишь к Кремлю — поближе. Но ведь иной раз и задумаешься: а надо ли быть так близко к месту работы? Может, подальше — оно и надежнее, для здоровья полезнее? Вот и стоят по одну сторону реки пустые замки, а по другую — заброшенные деревни. С какой стороны ни взгляни — заповедные места.
Доехали мы, вышли из машины, осмотрелись.
Яхта уже стояла пришвартованная к берегу, пассажиры давали показания, опера записывали сбивчивые рассказы в блокноты — а редкие пейзане дивились на столичных фраеров: одеты с причудами, говорят с вывертом, все у московских не по-людски. Жители прибрежных деревень спускались по косогору к яхте, прислушивались к разговорам. Какие у них здесь развлечения? Они такого события, может, сто лет не видали, а может, и все двести. Дивились пьяненькие мужички на столичных свидетелей. А свидетели не старались говорить тихо.
— Не могу молчать! — кричала правозащитница Альбина Кац, я узнал ее голос еще за километр. Характерный такой голосок.
Гена тоже узнал голос, втянул голову в плечи, это у него такой привычный жест — когда Гена понимает, что ему надают по шапке на работе за халатность, нераскрытое дело, шум в прессе, он всегда втягивает голову в плечи, старается спрятаться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
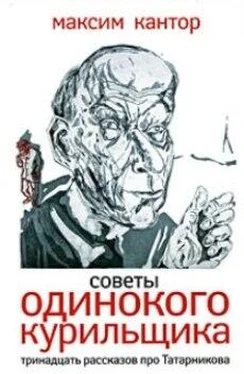





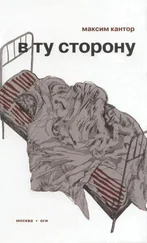


![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)
