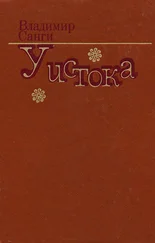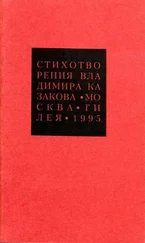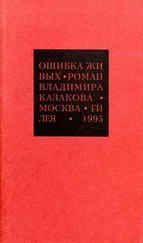— Ну, как дела, Иван?
— Отлично летают ребята. За Богунца не перестаю бес покоиться. Слетал он как надо, но вижу — это другой Богунец, не тот, который летает без инспектора.
— Лих?
— Сегодня очень скромен. Мне даже скучно с ним стало. Не дыми на меня своей поганой «Примой»! — отмахнулась от пахучего облака Лехнова.
— Прости, Галя… Как ты-то?.. Значит, точка! Никакой надежды? К Горюнову?
— Осуждаешь, что ли?
— Удивляюсь, почему тянете? Сможешь жить?
— А ты с женой?
— Я же сказал тебе… тогда!
— Ведь ты раньше знал, что на Кольский я за тобой перевелась? Чувствовал. И избегал. Теперь все перегорело. Не стал Иван Воеводин моим, но именно за это теперь я уважаю его намного больше. Вот так-то, Ваня, разлюбезный мой! У тебя чести переизбыток, а меня гордость состарила. Я неприступной королевой себя считала, высокого, чернобрового принца ждала. Потом тебя… Потом, глядь… на королеву-то уж никто глаз не кладет и всерьез за женщину не принимает! Принца своего сама же и убила. Да и был ли он среди вас, воздушных бродяг?
— Ожников хотел из меня свата сделать. Давно ты нравишься ему.
— Тоже, нашел принца!
— Ну, а Михаил разве не принц?
— К нему чувство особое. Наверное, больше материнское. Я видела его и в радости, и в горе. Хороший он, очень теплый человечище и… беспомощный. В несчастье беспомощный, в личном. А беды на него как дождь… Тебе сознаюсь: на счет материнского чувства вру я, Ваня. Стесняюсь возраста. Люблю я его! — И вздрогнула от собственного вранья. — Поздней любовью, но она, по-моему, и есть самая крепкая…
— Грустно мне, Галя. Будь мы с тобой посмелее, повыше предрассудков…
— Не надо! Стар ты для меня уже, Иван Иванович!
— Всегда считал — одногодки!
— Так было. Сейчас ты на тридцать пять лет меня старше. К твоим годикам приплюсовался возраст детей, появившихся на свет.
Воеводин вздохнул, бросил окурок и тщательно затоптал.
— Верно, Галя. Радость моя только в них. Но ты не торопись, подумай. Я ведь скоро вернусь…»
* * *
Вернувшись из проверочного полета в зону, Донсков медленно брел вдоль стоянки вертолетов. Думал. Вот уж кончается третий месяц его службы в Спасательной, а он фактически ничего полезного для людей не сделал. Может быть, и сотворил что-то, но это «что-то» не подержишь на ладони, оно невидимо, неосязаемо. Вот лопасти, которые он поломал в лесу, — видная работа! Три месяца по тридцать процентов из собственного кармана на ремонт вертолета отдай и не греши! И строжайший выговор с предупреждением за аварию вертолета Руссова. А при чем он? Донсков вспомнил «свободный стих» одного моряка-помполита, недавно прочитанный в га зете:
Начинается в семь, с бритья.
Я обязан быть чисто выбрит…
И потом чисто выбритый помполит уходит в «свободный полет»: «по каютам, в цеху, в машине, на мостике, в радио рубке и в курилке. С человеком, с бригадой, с вахтой; о рыбе, о море, о расценках, газетах, фильмах, о Чили, о Форде, о Мао, о людях, о боге, о вере, о женах, о детях, о тещах, о книгах, о любви, об искусстве». Это время помполит в своей работе считает главным.
«Пожалуй, он прав! — добро усмехнулся Донсков. — Он считает, что если за полгода плавания кому-то объяснил, «что реальная жизнь благородней и честней, открытей, чем «нигилисту» казалось», если узнал, что за эти полгода в результате его трудов «не себя полюбил себялюбец или подлости бросил подлец», то можно чувствовать долг выполненным. Так ли это? Отчасти. Хочется видеть человека, скроенного по идеальной мерке, — не получается. И не получится. Потому что сам не идеален, потому что идеалы у всех разные. Именно это и заставляет мучительно думать о несовершенстве своей работы, рождает вечную неуспокоенность. Если труд рабочего, инженера, пилота Донскова можно увидеть, оценить индивидуально, то труд Донскова-замполита можно только почувствовать в душе всего коллектива, оценить по общей работе. Но ведь есть примеры, когда люди хорошо работают, богато живут духовно и при посредственном политработнике.
Размышляя, Донсков, сам того не замечая, искусственно разделял себя на пилота и замполита. До сих пор как бы два человека уживались в нем. За первого он не беспокоился, способности второго вызывали большие сомнения. Все, что он делал как политработник, казалось плевым.
Донсков обернулся на шум автомашины и увидел, как из кабины полуторки выпрыгнул Ожников. Движением руки попросил остановиться.
Читать дальше