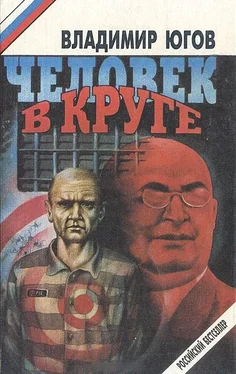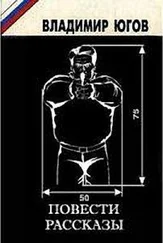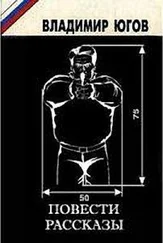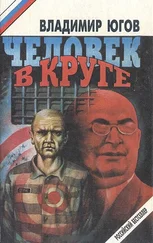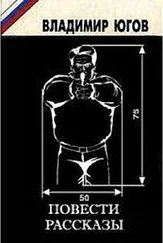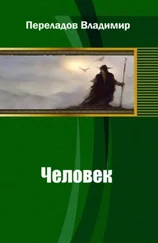— Возьмите. — И передал пухлый пакет. — Познакомьтесь на досуге.
Странно, однако это был роман «Самоубийство» Марка Алданова, писателя у нас пока не публиковавшегося. Роман я читал. Он печатался в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Мне его привозили друзья, часто бывавшие или на спортивных олимпиадах, или ездившие по дипломатическим каналам.
Мещерский приложил к роману неглупые комментарии-обобщения. И, собственно, их я довольно быстро пробежал. О чем и сообщил Мещерскому на второй день.
— Вы так быстро освоили? — удивился он.
— За одну ночь. Интересно.
— Сколько сейчас на ваших?
Я ему сказал, сколько. Мещерский предложил встретиться через час в нашем с ним кафе.
— Так вот в чем идиотизм нашей жизни, нашей действительности, — когда мы встретились, завертел он перед моим носом своими короткими ручками зал был пуст и он говорил громко. — Мы ничего этого не знали, — похлопал по книге и комментариям, которые я возвратил. — Почему вы не пошли на службу в КГБ? Вам не надо было бы унижаться, просить посторонних, которые бы что-то привезли вам.
— Откуда вы знаете, что я кого-то просил?
— Потому что я сам всегда просил, чтобы не отстать.
— В чем не отстать?
— Во всем. Алданов пишет о Ленине первым. Замечательная проницательность, сила воли, но какая нетерпимость! Но ведь эта нетерпимость характерна для революционеров всех эпох. В том числе и эпохи Ковалева! В ней источник их силы, в ней — весь ужас и страх. Вы понимаете это, когда собираете бумажки о Ковалеве? Вы хотите, чтобы он со своим умом разобрался сам в этом?
— Он делал зло, подчиняясь революционной идее?! И это говорите вы?! Говорит человек, который руководил райкомом партии! Зло, подчиненное идее?!
— Ковалев, — важно произнес Мещерский, — понимал, понимает, будет понимать, что в нетерпимости ко всему иному — источник силы ленинизма.
— И эта нетерпимость позволила ему творить самое гадкое даже с вашей дочерью?
— Да! И еще раз — да! Герметизм революционного сознания — это уметь не помнить о жертвах, о крови. Это не жалеть ни близких, ни дальних! Ибо насильственный ввод людей в счастливое будущее надо осуществлять любой ценой. И прощать при этом себе в мелочах. Моя дочь запуталась. И он ее поймал на этом. Для него это мелочи, что он ее шантажировал. Ведь Бухарин тоже имел молодую жену. Он увел ее от отца-революционера. Я думаю, там что-то Бухарин тоже использовал. И это по-революционному правильно! Пусть они будут жертвами!
Я глядел на него с недоумением. Это он говорит серьезно? Но — бред! Страшно!
— Не улыбайтесь, — расстроился Мещерский. — Ковалеву непонятно многое. Но революционная нетерпимость ему помогает в главном.
— А что главное? Главное в конце концов жизнь человека. Но жизнь вашей дочери под хамским контролем Ковалева!
— А зачем вы передергиваете?
— Вы на самом деле не жалеете дочь, которая попала в его цепкие лапы?
— Ну кто бы это говорил, а не вы! Вы же ревнуете мою дочь к нему!
— Я не ревную. Я боюсь за нее.
— Это уж позвольте бояться и заботиться о дочери нам, родителям. Кстати, мы относимся к его нетерпимости спокойно. Мы даже надеемся, что она принесет пользу не только нашей дочери — всему народу.
— Назад к сталинщине? Снова к твердой руке?
— Или снова в хаос?
— Но вы сами боитесь его! И вы хотите, чтобы снова его боялись все? И чтобы он со всеми делал то, что делал?
— Вы вначале докажите, что он делал. Но лучше бы, если вы доказали то, что теперешние делают. Это ближе. И это может хаос остановить.
— Молчать! Не разговаривать в строю! Верной дорогой идем, товарищи!
— Да, абсолютно верно. Без этого мы разрушили страну, уничтожили самое уникальное объединение людей. Шли эти люди и делали!
Мы спорили с ним до хрипоты. И он стоял на своем — этом насильственном вводе людей в счастливое будущее. Но с того дня Мещерский потоком доставлял ко мне материалы. Они были разные. Он оказался умен, изворотлив. Он стал снабжать меня документами, касающимися Ковалева.
Я так и не понял, почему он стал делать это?
Или я задел его дочерью? Он стал осознавать, что уж не так блестяще выглядит Ковалев, когда принуждает ее идти в его дом. Думаю, он знал все.
Я пояснял Мещерскому: меня, прежде всего, интересует внутренний мир таких людей, как Ковалев. Они пытаются изменить этот мир по-своему! Но изменился ли Ковалев сам в чем-то? В лучшую сторону? Мещерский моментально понял, какие документы я хочу иметь, чтобы понять Ковалева. Он стал подсовывать мне выдержки из бумаг, где характеризовался Ковалев-служака, исполнитель. Исполнитель и своей воли (заставить человека делать то, что хочет Ковалев!), и воли свыше. Материалы были, конечно, жидковаты. Мало было на Ковалева очень коротких запоминающихся характеристик. Страдали бывшие и сегодняшние бумаги расплывчатостью. Но везде в документах Ковалев ратовал за революционное преобразование человека, страны, мира. Он, по всем этим бумагам, сопровождавшим его и теперь хранящимся в архивах, умел при этом преобразовании не помнить о жертвах и крови. Ради теории освобождения большинства от гнета! Массы он не делил на полы. Женщины выглядели у него пролетариями. С ними можно делать все во имя чего-то грядущего. Как и со всеми остальными.
Читать дальше