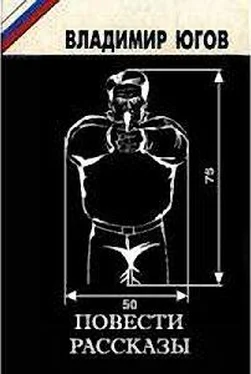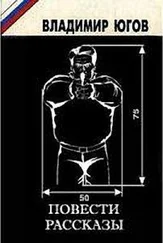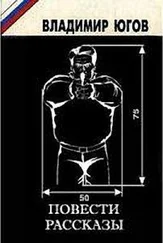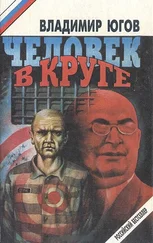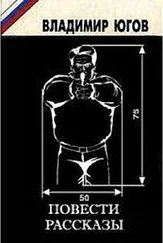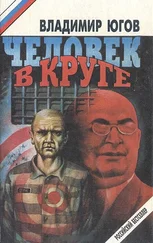Он вспомнил лица разжалованных докторов, ему на минуту стало не по себе. Но от этого момента он больше не думал о них. Это они, такие, всегда хотели бы, чтобы он, его хозяин, вел нацию на кровавые распри. Он не хотел крови, доктор Морель. Он страдал, когда видел много крови. Ему всегда мерещилось: когда он станет осматривать тысячи убитых евреев — а это ему рассказывали — то кто-то спросит его, подняв голову:
— Доктор, а вы же сами еврей!
И он заплачет, как заплакал бы тот, который ему это рассказывал после хорошей пьянки. Морель всегда боялся, что его кто-то разоблачит. Его хозяин, — он это помнит хорошо, — довольно хохотал, когда ему принесли в кабинет телеграмму: «Молотов — не еврей». Что же тогда сказать о маленьком Мореле, который — тоже не еврей, но всегда на глазах и похож на еврея?..
Кто-то тронул его за плечо. Он резко и испуганно обернулся. И тут же хотел вскрикнуть. Она стояла перед ним, чуть увядшая, совсем на себя не похожая. Но голос у нее был мягким, седые ее первые волосинки не выдернуты. А может, это был просто снег? И она этим мягким голосом сказала:
— Пойдем к тебе. Я тебе кое-что передам. И на словах, и так…
Он помог ей в коридоре снять пальто. Она была прекрасно одета. И он любовался ею. Он боялся притронуться к ней, потому что она могла бы сказать, что он опять беспробудно пил несколько дней.
— Морель, — сказала она, — у меня действительно умер ребенок.
— Как? — воскликнул он.
— Обыкновенно, Морель. Сперва моя дочь, которой исполнилось в тот день восемь лет, захворала. Она простудилась. Кто-то из нас — или я, или муж — открыл машинально окно, так как в комнате было душно. Мы подвезли ее кроватку и поставили на середину комнаты. Мы были счастливы, что она смеется. Мы были от этого, понимаешь, счастливы. И мы не заметили, как этот холодный декабрьский ветер обнимал ее бледные щечки. И как она старательно боялась сказать нам, что она может простудиться. В семь лет, Морель, мы ее однажды простудили, и она это помнила. Но какая девочка! Она не сказала нам и слова упрека. Она чувствовала, что мы счастливы. И она умела уже в свои годы радоваться за нас…
— Это так больно! — Морель впервые почувствовал боль за другого человека, за нее, эту женщину.
— Да, Морель. Это больно. Невыносимо больно…
— Что же я не приглашаю тебя в комнату? — заторопился он.
— Не надо, Морель, сегодня. Не надо приглашать. Я все равно не пойду к тебе. Я со своими. Я еще с ними… И с моей девочкой…
— Я понимаю, — пробормотал он, опять впервые почувствовав, что он действительно понимает ее.
— Я что тебе хотела сказать, Морель… Я не та женщина, которую ты обожаешь. Я чужая тебе. Я тебя всегда лишь продавала другим. У меня эта лишь правда — моя девочка.
— Я давно это чувствую.
— Нет, нет! Я действительно тогда… Я чуточку распущена… да, это муж знает… Я тогда думала, что вы… Одним словом, он молодой, а ты, толстенький и чудной… Но тогда ты сделался человеком вдруг. И я увидела, как это приятно быть с человеком. Я тогда имела задание — заставить тебя выговориться. Все сказать о своем хозяине. Но ты тогда был молодцом… Ты очень сдержанно вел себя. И мне все понравилось. Все вокруг меня иногда играют. А ты жил. И это мне очень понравилось. И я тебя представила в хороших красках, и ты за это получил эти самые зеленые кредитки… Я тоже за тебя получила тогда, и мне было приятно, что я получила их честно, и могла потратить на больного ребенка. Я тогда поблагодарила и себя, и Бога, что не наврала тебе о ребенке. Он же у меня был и тогда, и тогда он лежал в своей кроватке. И тогда я хотела к нему идти, но мне надо было все разузнать от тебя…
— Я это не почувствовал тогда, в первый раз.
— Мне стало жалко тебя. Ты у такого чудовища был в пасти… да и теперь ты в этой пасти… Если народы для него ничего не значат, что значит один, ты?
— Это все сложно. И я в последний раз почувствовал, что на грани гибели. Они меня в прошлый четверг привели в комнату, и они бы меня растерзали. Я чувствовал человеческие отбросы то ли у них, под полом, то ли за стеной. Я не показал, что мне жутко. И только одно меня спасло — это ты. Я подумал о тебе, я захотел с тобой еще раз встретиться. Я подумал: все это когда-то закончится. Все это пройдет. И если ты не любишь мужа, если ты одинока, как и я, мы могли бы надежно коротать конец. Только тебе ведь можно рассказать, как пахнут стены и как пахнут под полом чужие трупы…
— Я за это принесла тебе плату. Ты сделал своего хозяина идиотом. Вот возьми. Это золото. А деньги… Они тебе положили в банк, на твой счет…
Читать дальше