Она с неприязнью отвела Вадима в свой кабинет и велела ему слушать запись допроса Терлецкого с минимальным комментарием:
– Жена этого влиятельного человека лежала в клинике, в коме, ее похитили, это допрос по горячим следам.
– И? – Вадим не понял, чего хочет от него эта женщина.
– Что «и»? Слушайте, анализируйте, что вы там у себя делаете? Мне доложите о результатах. Часа вам достаточно?
– А что анализировать?
– Вам виднее, раз к нам на работу устроились.
– Мне обещали, что введут в курс дела.
– Вы вообще представляете, чем мы тут занимаемся?
– Расследованием преступлений.
– Совершенно верно. Вы будете частью этого процесса. Наша задача – собрать факты, сопоставить эти факты, выявить злоумышленника и подготовить дело к суду. Вопросы есть?
Вадима затошнило. Подработка, которую ему сосватал друг друга его друга и которая казалась интересным приключением, в руках неприятной женщины превратилась в зону повышенной опасности. Главная опасность, на которую среагировал Вадим, была не в том, что Воронкина, сто процентов, «прожует его и выплюнет», лишив необходимых денежных средств, а в том, что он облажается и не сможет выполнить возложенные на него обязанности, потому что никто не снизойдет к нему для того, чтобы объяснить, в чем же эти обязанности заключаются. Он вздохнул, кивнул и, как собака показывает брюхо в знак признания другого пса своим командиром, послушно присел боком к столу, чтобы «пойти неизвестно куда и принести незнамо что».
Воронкина заценила демонстрацию слабости и подчинения:
– Вам поставят стол где-нибудь. Поаккуратнее здесь.
– Извините, а я могу присутствовать на допросах? Посмотреть документы по делу?
– Если я сочту это целесообразным.
Хлопнула дверь из кабинета. «Ну надо же, как будто судьба сталкивает меня с этой неприятной женщиной… и теперь не извинишься, что фашисткой назвал. Ну, люди везде люди… как-нибудь разберемся». Вадим ткнул пальцем в начало записи и услышал четкий голос Воронкиной: «Шестое июня две тысячи восемнадцатого года, одиннадцать десять. Предварительный допрос свидетеля Терлецкого Давида Иосифовича по делу о похищении Терлецкой Лауры Михайловны ведет старший следователь Воронкина…»
«Ах, Одесса, жемчужина у моря! Ах, Одесса, ты знала много горя!» Люблю море, любила море. Мама и папа живы, каждый день пахнут пивом и креветками или вином и фруктами и смеются, смеются. Мы в Одессе, вот такое я люблю: чернющие, пахнущие солью пацаны, мужички с преферансом: заигрались, тень ушла, а они и не поняли, жирные, в складках женщины, в черных трусах и телесных лифчиках вместо купальников. Сижу – жую черешню размером с абрикос (я не преувеличиваю!) и абрикосы размером с персик, а персики… Эх!
Ну его, Хозяина с его вылощенными гольф-клубами: мужчины как сутенеры, вечно прикидывают твою цену; женщины с идеальной жизнью и тайными страстишками. Инструкторы, водители, тренеры с накачанными телами, готовые завалить любую, если у нее есть деньги, черноокие сладкие «бои», готовые встать на колени и взять в рот у любого. Ненавижу! Глупо, знаю, я и не понимала, как я это все ненавижу. Когда у тебя все отбирают, тут-то и понимаешь, что было важным, а что лишним.
А мужик-то справился, подкорректировал мои «коктейли», больше не глючит. Кто ж ты, мой принц на черном коне? Врач, конечно, врач. Если поддерживает мою жизнь… Вот только руки у тебя дрожат: хотелось бы знать: это дрожь ненависти или любви? Любви, наверное. Почему у всех мужиков дрожат, когда они трогают меня? Чего они боятся? Вот у всех: у первых потных подростков, у Куликова, у Жоржика… Ну, этот понятно: на отцовскую женщину посягнул: еще неизвестно, страх это был или страсть. Как же он был удивлен, что не дала. Он-то был уверен, что я с Хозяином из-за денег, а может, и сам Терлецкий подослал, проверочка, честная ли… Вот дурак! Зачем мне был кто-то еще, если был он?
Нет, честно, было больно. Правду говорят: что не растет, то умирает. Может, и стоило идти с ребенком до конца, если вся эта швейцарская фигня не помогала. Вот только зачем мне ребенок? Чтобы сиськи обвисли, живот растянулся, токсикозы, варикозы… Нет, ребенком бы я его не удержала. Да ничем не удержала бы… Пресытился, семь лет гореть… а может, просто испугался. А что? Хозяин тоже человек, мужское ссыкло: а вдруг бы он меня полюбил?
Почему люди раньше не боялись любить, делать детей? Мама перед смертью жалела, что у нее трое было, не четверо. И любил ведь ее отец, а сиськи-то были страшные, и шрам на животе. Знаю, почему: нечего терять им было. А этим, Хозяевам, есть чего. Все боятся просрать свое богачество, а жизнь-то просирают…
Читать дальше
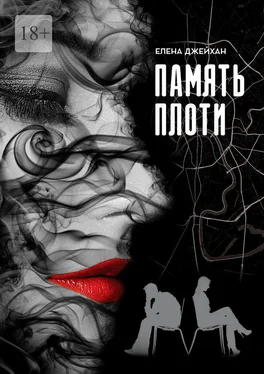






![Юлий Лурье - Встречное движение [Психологический детектив]](/books/395639/yulij-lure-vstrechnoe-dvizhenie-psihologicheskij-det-thumb.webp)




