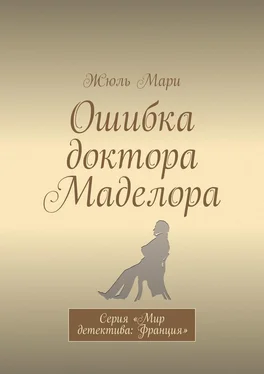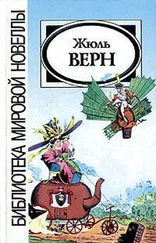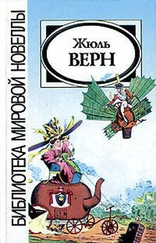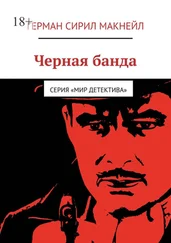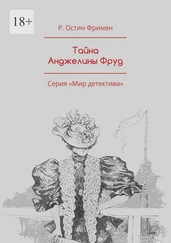Другие спешили прибавить:
– Это тот человек, по вине которого осудили и приговорили к смерти госпожу Комбредель! Приговорена к смерти! К смерти!
Легко сказать! Для детского разума это было такое дикое, непонятное слово! Конечно, доктор должен, непременно, быть каким-нибудь сверхъестественным существом, чтобы так полновластно распоряжаться жизнью своих ближних…
В дни, последовавшие за днем судопроизводства по делу госпожи Комбредель, Маделор много выходил из дому. Он чувствовал, что город интересуется им, что в устах всех и каждого находится его имя. Он еще раз хотел убедиться в непоколебимости своей медицинской репутации, которая, вот уже целые двадцать лет, окружала его своим ореолом.
И это не значит, чтобы Маделор обманывал самого себя. Его вера в самого себя была здесь решительно не при чем, и нисколько не затемняла его обычного беспристрастия. Он искренно был убежден в свой правоте. Со дня обвинения Анны Комбредель, в глубине его души ни разу не шевельнулось ни единого упрека совести, ни единого сомнения или какого-либо беспокойства. Он довел до конца тяжелую, возложенную на него обязанность. Вот и все!
Он сделал несколько визитов. Обыкновенно, он очень редко навещал своих знакомым, через большие промежутки времени, по торжественным дням.
Теперь, когда его имя переходило теперь из уст в уста, но к его имени, как нечто роковое, неизбежно присоединялось имя Анны Комбредель.
Будь он хотя бы немного повнимательнее к тому, что вокруг него творилось, не будь он так сильно ослеплен блеском своей репутации, он, непременно, сумел бы подметить известного рода пугливое любопытство, которое проглядывало в том показном радушии, с каким его везде принимали.
Но доктору Маделору было теперь не до этого.
Он с жадностью наслаждался своей собственной славой. Эта слава его ослепляла, так сильно он был поглощен созерцанием своего торжества…
Конечно, это было торжество… Не найди он в трупе яда – он смотрел бы на это, как на неудачу. Не найти яда – для него значило потерпеть фиаско.
Приговор Анне Комбредель был вынесен.
Она, словно милости, попросила позволения увидеться со своим сыном. И ей милостиво разрешили.
Доктор Савиньи, привел маленького Жерома в Шато. Вследствие какого-то особенного снисхождения – может быть, потому, что вдова фермера, даже и после приговора, вызывала к себе какой-то таинственный интерес – ребенку позволили войти в тюрьму.
Тюремщики были настороже. Жером, в смущении, медленными шагами подошел к матери. Та протянула к нему руки и когда мальчик очутился в ее объятиях, он положил свою голову к ней на грудь и зарыдал.
Анна прижала его к себе изо всех сил. Она не могла ни плакать, ни говорить.
Жером обвил руками голову своей матери. Он вздрагивал всем телом и дрожал, как в лихорадке. Рыдая, он кричал:
– Матушка! Матушка! Милая матушка! Я не хочу, чтобы они тебя у меня отняли. Я не хочу, матушка, чтобы ты умерла из-за них.
Она посадила его на скамью, уложила его голову к себе на колени, обвила руками и, с судорожным нетерпением, стала осыпать его поцелуями.
Бедная женщина находилась в страшном волнении. Своими безумными поцелуями она пыталась осушить слезы на глазах мальчика.
– Успокойся, да, успокойся, мой ангел! – говорила несчастная мать, а потом, вдруг затихала.
Она прижималась к ребенку и прислоняла свое лицо к его детскому личику. Ее светлые волосы, рассыпавшиеся беспорядочными, длинными прядями вокруг ее шеи, перемешивались теперь с черными локонами ребенка.
Наконец, она успокоилась, и обратилась к сыну:
– Не правда ли, Жером, ты всегда, всегда будешь любить свою мать? Да, я знаю, ты будешь ее любить, несмотря на тот незаслуженный позор, который ее убивает. Прежде чем произнести над ней свой приговор, ты дождешься того времени, когда ее уже не будет на этом свете. Ты подождешь, когда свет истины прольется на это преступление, которое вынуждают меня искупить теперь своей смертью. Потому что – видишь ли, правда, рано или поздно, непременно откроется, но будет уже поздно. Жером, ты будешь всегда любить свою мать и будешь любить ее все сильнее и сильнее. Ты вспомнишь о тех заботах, о той помощи, которой она тебя окружала, вспомнишь, как она была снисходительна к твоему непослушанию, как она прощала твои шалости. Если бы ты только знал, мой милый мальчик, с каким чувством невыразимой радости я тебя воспитывала, следила за развитием твоих способностей, наблюдала за первыми пробуждениями твоих сердечных привязанностей. Да будет память твоей матери для тебя священна, мой дорогой! Пусть месть и ненависть никогда не коснутся твоего сердца. Твоя мать, действительно, много выстрадала, но мести, мести не надо. Может быть, по мере того, как ты будешь расти и мужать, – может быть, все эти ужасные сцены, при которых ты присутствуешь теперь, в качестве свидетеля, изгладятся из твоей памяти. Тем лучше! Дай бог, чтобы ты не знал, что такое печаль и тоска. Пусть мир и спокойствие царят в твоем сердце!
Читать дальше