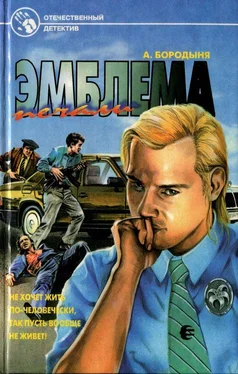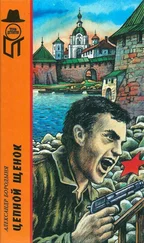— Кто там у нас еще? — спросил дежурный. За стеклом было видно его бледное, усталое лицо, маленькие усики топорщились. Он снял фуражку и подправил коричневой расческой волосы. — Следующий кто?
Два милиционера, придерживая за локти пьяного мужика, — пьяный был почти без сознания, и на его разбитом лице гуляла почти детская, невинная улыбка — поставили его перед стеклом дежурного по отделению.
— Чего натворил-то? — спросил тот, надевая свою фуражку.
— Я Вася! — сказал пьяный и попытался сесть на пол.
— Имя! — сказал дежурный, и по тому, как наклонилась кокарда, Коша догадался: он вынул лист протокола и приготовился писать.
— Не имеешь права! Ты меня должен уважать!.. Я войну прошел! — вдруг взревел пьяный, и его огромный кулак мягко ударил в стекло. — А ты меня… А ты меня за руки хватаешь.
Алкоголику на вид было никак не более сорока, и максимум, где он мог повоевать, так это в Афганистане, но уже через минуту выяснилось, что войну прошел не он сам, а его зарезанный в пьяной драке собутыльник-ветеран, с которым на пару они распили бутылку водки и два флакончика краденого французского лосьона на своем рабочем месте, в подвале бойлерной. Он совершенно не помнил, как ударил лопатой старичка. Он, плохо понимая происходящее, все пытался продолжить военную тему, которая несколько часов назад была прервана его собственной рукой, схватившей совковую лопату и раскроившей ветерану-собутыльнику череп.
— Потом! — сказал дежурный. Он получил из рук милиционера, доставившего убийцу, мятые, мокрые документы. — Потом. Пусть оклемается. В отдельную его пока.
— В отдельной места нет.
— А и хрен! — Кокарда опустилась еще ниже, дежурный что-то быстро записывал. — Давай в аквариум.
Глянув вдоль коридорчика, Коша сосчитал двери камер. Их было всего четыре. Слишком мало для центрального городского управления. Двери были, вероятно, совсем недавно обиты металлическим листом. Один из милиционеров придерживал лжеветерана, а другой, отомкнув ближайшую к дежурному дверь, распахнул ее.
— Пустите меня! — заорал пьяный, когда его втолкнули внутрь. — Рана ноет! Жжет рана!
И как бы в ответ на его стон к решетке соседней камеры изнутри прилепилось женское темное лицо. Губы женщины, разделенные вертикально металлическим круглым прутом, раскрылись.
— Миллион, миллион, миллион алых роз! — выдала она хрипло и громко. — Миллион-a, миллион-а…
— Заткнись, Зуева! — сказал в микрофон дежурный. — А то до утра у меня полы драить будешь!
— Миллион-a, миллион-а!..
— Пращук, — рявкнул дежурный. — Пращук, мать твою хором!
В конце коридора появилась массивная фигура того самого милиционера, что сидел в машине слева от Коши. Милиционер еще не просох. Его сапоги оставляли на полу темноватые следы. В одной руке он держал большой ломоть черного хлеба с колбасой, в другой — наполовину початую бутылку минеральной воды «Саяны».
— Чего?
— Прошу тебя, Пращук, уйми ее. Не могу я больше ее пение слушать!
— А чего я? Видишь, я пищу принимаю!
— Пращук! — неожиданно прервав свою песню, сказала Зуева, и ее темные губы чмокнули громко. — Пупсик мой целлулоидный, подойди! — Сквозь решетку просовывались такие же темные, как и губы, дрожащие пальцы. — Я тебя хочу… Подойди, я тебя хочу за погон потрогать. — Она стукнула ногой внутри камеры, так что обитая металлом дверь завибрировала. — Не подойдешь, всю ночь песни орать буду. Что хочешь со мной делай, все равно буду орать, если не подойдешь.
— Поди, поди, Пращук! — взмолился дежурный, и микрофон усилил его голос. — Поди к ней!
Отдаленно громыхнуло за окном. Коша подвинулся на скамейке, в спине его неприятно кольнуло. Милиционер приблизился к камере и подставил свой левый погон. Напряженный темный палец Зуевой пролез между прутьями решетки, и грязный ноготь, с трудом дотянувшись, чиркнул по широкой золотой полоске. Женщина вздохнула, всхлипнула так сладко, будто ее только что как следует удовлетворили, и темное лицо исчезло из окошечка. В отделении стало тихо.
По звуку мотора Коша понял: подъехала еще одна машина. Хлопнули дверцы. Он подумал, что прошло уже, наверное, полчаса, как его сюда привезли, а еще даже не обшмонали, халтурщики.
Рядом с ним на скамье сидела очень красивая светловолосая женщина. Длинные ноги скрещены, над заплеванным полом раскачивается блестящая, острая лодочка туфли, торчит отточенно каблучок. Сухое черное платье и такой же сухой зонтик, лежащий на ее коленях, говорили о том, что эту женщину привели сюда еще до грозы, значит, много часов назад. Серебряная цепочка в вырезе платья, такая тонкая, что казалось, одним резким нажатием можно перерезать шею. Цепочка ясно говорила о том, что эту длинноногую тоже пока не обыскивали.
Читать дальше