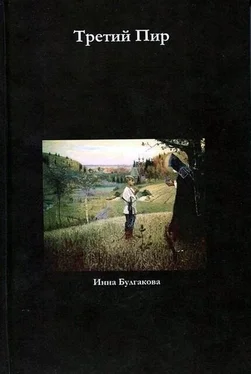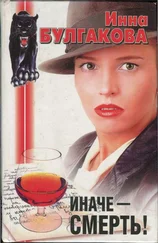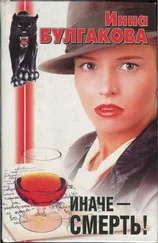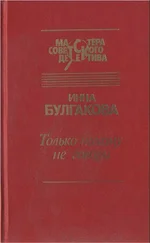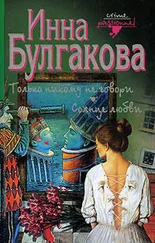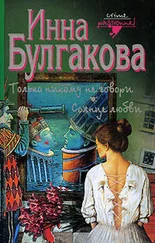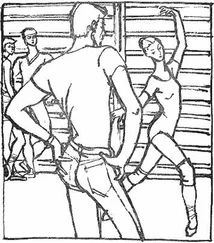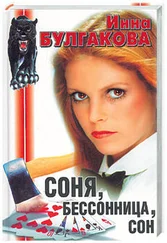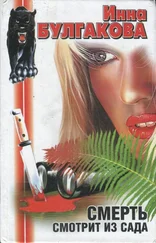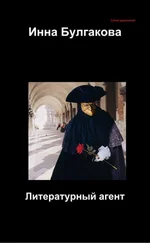Задыхающийся герой «Третьего пира» Дмитрий Плахов как будто видит обе эти стороны — ужаса и надежды — и ищет третьего пути: знать о неизбежности Дня гнева и встречать его с открытым лицом, помнить о синтезе «Брачного Пира Преображения и Страшного Суда Конца», знать, что «Он непременно вернется и мы, освобожденные на этот раз от зверя, не сможем убить Его — Сына, солнце в силе своей».
Но суть-то, суть романа, действие-то не в этом же? А в чем? — торопит нетерпеливый читатель. А вот в этом и есть, хотя сюжет аккуратно следит мистические подмены героев, азарт молодых и усталость старых, упорно перепрятывает пистолет из главы в главу, посмеиваясь, что в конце он непременно выстрелит, не стесняется обнаруживать правила построения романа и его возможные просчеты прямо на тех же страницах, улыбается неизбежной книжности современного сознания, так что как вылетит у автора «шепот», то тут же явится и «робкое дыханье», как скажется «эти бедные селенья», так уж сразу наготове и «эта скудная природа». Но все прощается, все исцеляется, все оправдывается первенствующей в романе любовью героев, которая, оказывается, странно и мучительно связана со всем — историей, революцией, предательством, лагерями, омертвением мира — и которая в конце концов все превозмогает. И ею одной, кажется, по-настоящему и связано все как будто такое известное, и ею неожиданно и ново освещено.
Эти полет, страсть, ужас, восторг и соседство любви со смертью, их «повязанность» давно никто не писал в таком страшном, напряженном безумии. А мы уж и забыли, что стоит (или еще недавно стояло) за этим словом, и теперь с благодарностью и смятением вспоминаем — мы ли это были и можем ли мы еще узнать, пережить, понять себя вчерашних или уже и любовь стала архаизмом и это последний плач по ней, последнее напоминание, что она освобождает человека от истории и переводит в человеческую вечность, равняющую и делающую одинаково реальными современниками Данте и Беатриче, Гамлета и Офелию, Чехова и Лику Мизинову, Мастера и Маргариту, Пастернака и Ивинскую, Живаго и Лару. И опять мы с благодарностью убеждаемся, что никакая история не вольна над любовью и бессильна перед ней — изувечить изувечит, но победить — нет.
Слава Богу, в хорошей книге опять ничего не надо объяснять, а только радоваться ей, только благодарить добрых людей, натолкнувших тебя на нее, и в меру сил стараться продлить и передать эту евангельскую и человеческую любовь дальше. И не знаю почему, но, видно, не без связи я все твержу и твержу давно высмотренное у отца Сергия Булгакова ободрение: «…в дни ужасов и мистической тоски, навеваемой демонским одержанием, верующие призываются к духовному бодрствованию и свободе от всеобщей паники. Откровение зовет нас не к устрашению, но к христианскому мужеству».
Вот и эта горькая книга не к печали, но к милости, как дружеская рука. Великие русские детективы, начиная с Достоевского, могут быть покойны — продолжение следует…
Литературная Россия. 1996. № 50(1766). 13 декабря.
13 мая 1957 года в Никольском лесу в Подмосковье был обнаружен труп десятилетнего мальчика — пуля из немецкого пистолета системы парабеллум застряла в сердце. Никаких следов убийцы обнаружить не удалось; не удалось установить и мотива преступления. Ребенка похоронили возле леса на новом, уже послевоенном кладбище неподалеку от совхоза «Путь Ильича», за могилой следили мать с отцом, больше ее никто не навещал.
Шли годы…
Семь лет прошло, и однажды на кладбище появился юноша, не из местных, довольно скоро нашел холмик с березкой и незабудками. Минуту вглядывался в детское лицо на овальной фотокарточке под стеклом в центре православного креста и удалился, посвистывая.
Шли годы…
Двадцать три года прошло, и однажды на кладбище пришла прекрасная женщина с тремя собаками, довольно долго плутала меж могилами, пока не остановилась перед той же фотокарточкой. Вгляделась, испугалась отчего-то и быстро ушла прочь.
Шли годы…
Тридцать три года прошло, и я подошел к лесной опушке. И остановился, потрясенный. Никольский лес — мой детский рай на заре, мой детский ад во сне — был искажен, искорежен до неузнаваемости. Как будто здесь прошел ночной бой. Постоял осваиваясь. Нет, уничтожена была часть леса. Другая часть — живая чаща — затрепетала вдруг последним сентябрьским золотом. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье. Жизнь прошла.
Читать дальше