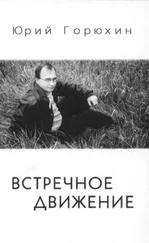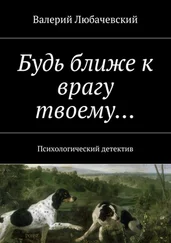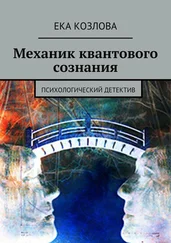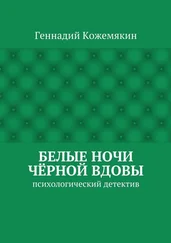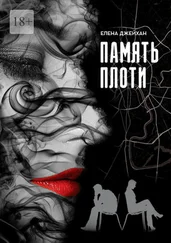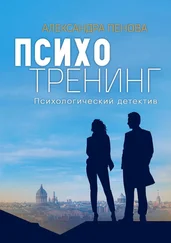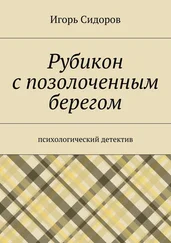— Иди к декану, — сказал он и, не глядя мне в глаза, строго добавил, — все образуется.
Декан сразу же принял меня. Мне не пришлось не то что говорить, даже присесть.
— Сарычев? — полуспросил он, — вот вам направление на пересдачу…
…Бульдожка не прошла по баллам, у меня же балл оказался проходным.
Когда вывесили окончательные списки, я долго утешал ее, а она трясущимися губами повторяла мне все свои верные ответы на все вопросы экзаменаторов. Мы поехали к только что выстроенному метромосту, было темно, кругом царила свалка. Она все говорила и говорила и не обращала никакого внимания на мои руки. ^На какой-то куче гравия я долго целовал ее, поочередно стаскивая трусики то с одной, то с другой ноги; стащив, сунул в карман, лег на нее, без усилия раскрыл, но когда дошло до собственного расстегивания, то, едва коснувшись своей плоти, я почувствовал судороги, мокроту, вязкость между пальцами… Полежав на бульдожке, я поднялся, и мы пошли прочь. Только дома я обнаружил, что у меня в кармане остались ее белые детские трусики. Собственно, все, что осталось, потому что, как ни стараюсь, не могу вспомнить ее имя…
…Через две недели уже студентом я вошел в институт и после первой вводной лекции послал свернутое в трубочку стихотворение неизвестной мне девчонке-студентке, ладной толстушке, так непохожей на всех тех, кто мне нравился прежде…
Прошлое осталось позади, оно было отринуто, забыто — течение самой жизни держало меня и влекло, и теперь лишь какое-нибудь ЧП способно было прервать этот ток от начала к концу, общий для всех.
Сарычев, Чеховский, Иваша приобщили меня, выбитого из колеи, к тому естественному ходу, который являет не что иное, как бессмысленность жизни, и успокоились, полагая, что их миссия закончена и можно так или иначе забыть обо мне. Не знали они лишь одного: старость неминуемо возвращает людей к тем местам, событиям, лицам, с которыми много связано, в которых много вложено. И чем больше отдано ненависти или любви кому-то, тем под старость сильнее тяга к этому человеку. Они прощались со мной, но по сути это я прощался с ними, не зная тогда, что вскоре уже им придется искать моей любви, дружбы, сочувствия… хотя бы понимания…
А пока, не слушая и не слыша лектора, я следил за белым листом бумаги, плывшим вниз по рядам в направлении толстушки. Не отрываясь, я смотрел, как она разворачивает послание, как, вспыхнув, читает стихотворение, и, глядя вперед, не дал себе труда обернуться, а потому не увидел мелководную речку, протекавшую в нескольких шагах позади меня… Я бы наверняка удивился, узнав, что имя ей Рубикон и что перешел я эту речку, не замочив даже ног… Перешел? Нет, меня через нее — перенесли…
Чистая формальность, но и ею Макасеев не пренебрег: вернувшись в прокуратуру, он еще раз пересмотрел в деле все фотографии убитого. И удостоверился.
Казалось бы, теперь естественно было вызвать академика, задать ему вопросы, получить ответы. Так поступил бы любой следователь и остался бы до пенсии в своей районной прокуратуре, — Макасеев же, изменив последовательность действий, лишний раз доказал самому себе, что недаром он «важняк»: сначала прикинул возможные ответы, затем отсеял оказавшиеся лишними вопросы и в результате пришел к выводу, что до поры до времени допрашивать Сарычева нет ни малейшего резона. Для простоты и наглядности соединяя предполагаемые ответы в последовательный рассказ, он получил примерно следующее: «Сына я не убивал. Нет оснований подозревать меня как человека. Отношения у нас были плохие; мы разошлись, но остались единственно близкими друг другу людьми на всем белом свете. Никаких мотивов — корысти, мести, ревности — не было и быть не могло, во всяком случае с моей стороны. Если бы в ссоре, аффекте, то не на пляже, не в переодевалке. И не стал бы скрывать. Не заявил, потому что не знал о его гибели. Не знал, потому что он ушел из дома месяц (год, три года) назад. Не звонил ему на работу, потому что и он мне не звонил, или потому что он нигде не работает — вольный художник, или потому что всему есть предел… Ездил на дачу, надеясь увидеть его, напился, чтобы оправдать эту поездку. Подрался с милиционером, потому что, не застав, был огорчен, раздражен»… Ну и так далее…
Что оставалось Макасееву, который, просуфлировав возможные ответы академика, убедился, что зацепка есть, а подозреваемого как не было, так и нет.
Оставался, правда, один невыясненный и чрезвычайно существенный вопрос: почему Игорь Сарычев никогда, или почти никогда, не бывал на даче отца в Серебряном Бору? Ведь если бы бывал, то его опознали бы соседи, а если не бывал, то какие загадочные обстоятельства воспрепятствовали этому?
Читать дальше
![Юлий Лурье Встречное движение [Психологический детектив] обложка книги](/books/395639/yulij-lure-vstrechnoe-dvizhenie-psihologicheskij-det-cover.webp)