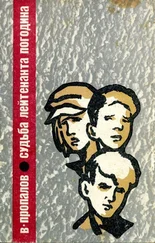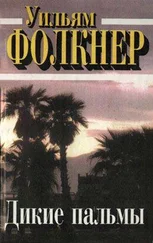Томительно тянулись минуты. Михайловский глядел на судью безнадежным погасшим взглядом, ожидая самые важные, самые главные для него слова. Наконец, судья отрывисто произнес:
— Суд приговорил Михайловского Александра Васильевича к трем годам лишения свободы… условно с испытательным сроком в течение пяти лет…
Легкий шумок пролетел по залу. Какой-то бородатый мужчина с укором поглядел на подсудимого.
Михайловский ничего не слышал и не видел.
Неужели не было дороги
Лучше той, которой ты пошел?
Автор
В первой половине дня, когда я сидел за столом, склонившись над толстым, изрядно потертым уголовным делом, в кабинет ввели невысокого сутуловатого мужчину, доставленного конвоем из исправительно-трудовой колонии. На нем была летняя лагерная одежда — черные отлинявшие куртка и брюки. Только яловые сапоги не относились к комплекту казенной одежды.
Заключенный остановился недалеко от двери, небрежно бросил на меня колючий, недоверчивый взгляд, поздоровался, продолжая держать скрещенные руки за спиной. Я предложил ему сесть. Он устало опустился на стул, повернув остриженную голову в сторону. На вид ему можно было дать лет тридцать восемь. Я с минуту разглядывал его морщинистое, с отвисшими дряблыми щеками лицо, потом спокойно и мягко спросил:
— Ваши фамилия, имя?
— Иван Юкляевских, — безразлично ответил заключенный, словно мой вопрос относился не к нему, а к кому-то другому.
В бесцветных тусклых глазах Ивана Юкляевских сквозила тоска. Он недовольно хмурился и потому казался старше. Иван, видимо, понимал, что его пригласили в милицию не чай пить и не анекдоты слушать, а по какому-то другому делу, серьезному, неприятному.
Я скорее почувствовал, чем понял, что задавать ему конкретные вопросы по преступлению, совершенному три года назад, в эти минуты бессмысленно. Да и в поднятом из архива суда уголовном деле, с которым я, изучая личность Юкляевских, заранее познакомился, нет ни одного его признания, не говоря уже о раскаянии, хотя состав преступления полностью и неопровержимо доказан.
Мне очень хотелось, чтобы на этот раз Юкляевских вел себя иначе, признал свою вину и раскаялся чистосердечно. Раздумывая над тем, с чего начать разговор, я молчал, продолжая наблюдать за поведением Ивана. Наступившая в кабинете тишина угнетала и раздражала заключенного, и он, нервно покусывая нижнюю толстую губу, первый заговорил.
— Закурить можно?
— Закуривайте.
Иван лениво достал из бокового кармана черной отлинявшей куртки газетную бумагу, свернутую в маленький рулончик, махорку и задумчиво начал делать самокрутку.
— Закурите, может, папиросу? — спросил я, протягивая пачку.
— От роскоши отвык, — коротко бросил он, не поворачивая остриженную голову.
— «Прибой» — не роскошь, крепкие.
— Махорка лучше.
— Что же вы, Юкляевских, за три года так сильно похудели? — спросил я, когда наши взгляды встретились. На мой вопрос Иван ответил тоже вопросом:
— А вы откуда знаете, какой я был раньше?
— Узнаете? — Я поднял над столом фотокарточку, на которой было изображено красивое лицо с открытыми глазами и носом с горбинкой, густые волосы гладко зачесаны назад.
Юкляевских медленно повернул голову, устало улыбнулся, выдохнул:
— Как не узнать. Таким я был до ареста.
— А теперь? Старик?
— Почти, гражданин начальник, хотя мне всего тридцать второй идет.
— Я — не начальник, а оперуполномоченный уголовного розыска.
— Все равно. Милиция, значит, начальник по-моему.
Так незаметно началась наша беседа. Было видно, что с Иваном Юкляевских давно никто не разговаривал по душам, просто, непринужденно. С каждой минутой он все больше «оттаивал», и теперь не казался таким отчужденным, как вначале. Но приступить к допросу я не спешил. Разговаривая, мы глядели друг другу в глаза, прямо, открыто, честно. И, может быть, потому Иван задумчиво рассказывал:
— Когда мне шел девятнадцатый год, я совершил кражу. Эта роковая ошибка и посадила меня впервые на скамью подсудимых. Дали пять лет. В заключении работал до ломоты в костях. Освободили досрочно. Устроился на работу, женился. Жил и радовался. Но однажды по пьянке попал в компанию «своих», тоже освобожденных из колонии, и жизнь опять вышибла из седла. В декабре пятьдесят шестого года мы обокрали два магазина. Суд лишил меня свободы на пятнадцать лет, остальных на меньшие сроки. Три года я уже отсидел, осталось еще двенадцать. Если не скинут, то свободу увижу только на сорок пятом.
Читать дальше