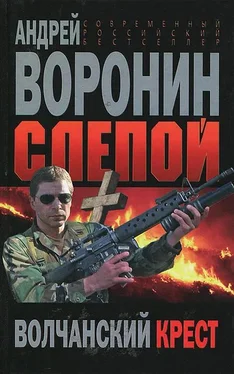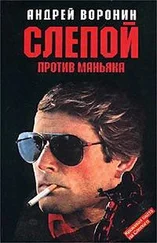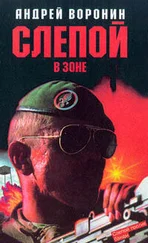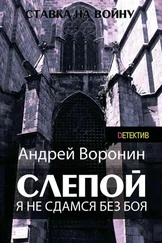Затем двое оставшихся в строю геологов, посовещавшись о чем-то в сторонке, подошли к Краснопольскому и прямо заявили о своем решительном нежелании оставаться в этом гиблом месте еще хотя бы на сутки, не говоря уж о том, чтобы, презрев более чем реальную угрозу насильственной смерти, вслед за своим чокнутым начальником двинуться к истоку реки. Они требовали либо немедленно дать им полный расчет, либо прервать работу экспедиции — тоже, разумеется, немедленно — и убраться отсюда всей компанией, пока целы. При этом было понятно, что второй вариант им нравится куда больше, поскольку предполагает доставку их драгоценных организмов к ближайшей железнодорожной станции посредством экспедиционного грузовика.
Басаргин, в присутствии которого господа геологи провозглашали свой манифест, наблюдал за происходящим с кривой иронической ухмылкой, которую не могли скрыть его густые, лихо закрученные чапаевские усы. Глеб, который ничего не провозглашал, а просто стоял в сторонке и фиксировал события в памяти, оценил эту ухмылку по достоинству. Впрочем, ему уже многое было ясно и без каких-то там ухмылок.
Едва геологи закончили свое выступление (выступали они дуэтом, поддерживая и дополняя друг друга, поскольку солировать ни один из них, по-видимому, не отважился), как к гостинице на своей черной «Волге» подкатил господин мэр собственной персоной. Напустив на себя скорбный и вместе с тем укоризненный вид, он выразил Краснопольскому свои соболезнования, не преминув, однако, напомнить, что он предупреждал, пытался объяснить, но его слова не были приняты во внимание, и вот к чему это привело.
Начальник экспедиции, который, собственно, и без того уже был сломлен и вовсе не нуждался в том, чтобы его доламывали, тут же, прямо на крыльце, объявил о своем намерении незамедлительно отбыть в Москву. Он спросил, нет ли у представителей правоохранительных органов и исполнительной власти каких-либо возражений, вызванных необходимостью проведения следственных действий.
Возражений, разумеется, не последовало. Субботин, который, несмотря на скорбное выражение физиономии, выглядел очень довольным, лишь горестно покивал, пожелал им счастливого пути и был таков. Басаргин же прямо заявил, что как-нибудь справится со следственными действиями и без их участия и что без них в Волчанке наверняка станет спокойнее. Как именно он намерен справиться с расследованием, а заодно и с поисками бесследно пропавшего Пермяка, было ясно всем, но и возразить капитану никто не мог. да, пожалуй, и не хотел. Что же до вскрытия тела Зарубина, то начальник милиции заявил, что пусть этим занимаются московские эксперты, а ему, капитану Басаргину, причина смерти ясна и так, без вскрытия. Глеб мысленно согласился как с тем, что сказал капитан, так и с тем, о чем он не упомянул. Причина Гошиной смерти действительно была ясна, а особой разницы между областными и московскими экспертами Басаргин не ощущал: круг заинтересованных лиц ограничивался жителями Волчанки, да и то не всеми; все прочие в любом случае были чужаками. А если во время вскрытия у патологоанатомов вдруг возникнут какие-то вопросы, пусть это лучше произойдет в Москве, откуда до Волчанки не очень-то и докричишься.
Сборы были недолгими. Даже Аристарх Вениаминович, едва придя в сознание, ответил на предложение немного отлежаться в здешней амбулатории решительным и недвусмысленным отказом. «Вы уж, батенька, тогда меня лучше сразу закопайте, — слабым голосом, но очень решительно объявил он Краснопольскому. — Можете даже живьем, хуже все равно не будет».
Так совершился этот отъезд, подозрительно похожий на паническое бегство. Даже Глеб, являвшийся, по идее, самым морально устойчивым членом экспедиции и вдобавок знавший о происходящем больше всех своих товарищей по несчастью, вместе взятых, испытал что-то вроде облегчения, когда Волчанка вместе со всеми ее обитателями осталась позади и скрылась за поворотом дороги. Как будто исчезло какое-то физически ощутимое давление; как будто кто-то огромный и невидимый убрал наконец ладонь, которая не слишком сильно, но откровенно и настойчиво выталкивала их из поселка.
Краснопольский упорно молчал, и в этом чувствовалась какая-то невысказанная обида, как будто в злоключениях экспедиции был виноват не кто иной, как Глеб Сиверов. Позади них, в передней части кузова, возлежал на тюках с так и не распакованным экспедиционным оборудованием все еще бледный как полотно Аристарх Вениаминович. Оба геолога жались к его изголовью — якобы для того, чтобы поддержать и помочь, а на самом деле стремясь держаться подальше от установленного посреди кузова наспех сколоченного местными умельцами гроба, кое-как обшитого листами оцинкованной жести. Солнце карабкалось в зенит, по кабине гулял теплый сквозняк; Глеб то и дело поглядывал в зеркало, но сзади было чисто.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу