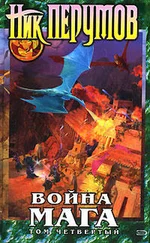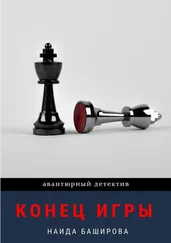Но пока это проблема вторичная, еще не настала пора размышлять о деталях, пройдет еще какое-то время, пока ему удастся отснять «свой» фильм, а сейчас он еще не вправе выбирать и ставить условия. Сценарий, который ему предложили, не его собственный, но придется с этим смириться; во всяком случае, это будет актуальный фильм с серьезной общественной проблематикой — борьба за чистоту окружающей среды. Волнующая тема, пробуждающая совесть людей, ответственность за собственные поступки, предупреждающая о равнодушии, о катастрофических последствиях нарушения экологического равновесия, да, это будет хороший фильм, нужный, фильм, который не каждому под силу, его может сделать только тот, у кого есть на это моральное право, кто сам незапятнан. Конечно, они ошиблись, но их ошибка, по сути, и не ошибка; это лишь нарушение хронологии. Он, разумеется, очистится. А затем, со временем, когда укрепит свои позиции… там… наверху… он снимет фильм «своей души», в котором безоговорочно, честно и откровенно скажет о себе, о нас, обо всем. Пусть тогда капитан и судит о нем!
Он вызывающе посмотрел на капитана, который неприязненно отвернулся и тихо, словно разговаривая сам с собой, произнес: Она взяла на себя вашу вину. Наверное, она знала, что делает. Может, вы и заслуживаете… Бог весть. Он изумленно покачал головой: Она пожертвовала собой ради вас.
Славик сухо заметил: Понимаю, вы хотите уязвить меня. Хотя бы маленькое удовлетворение, да? Нет, вам не удастся.
Странно, говорил капитан, словно вовсе не расслышав слов Славика. В самом деле, странно… Ваш отец взял на себя вину за преступление, которого не совершил, будто убежден был, что это необходимо… так сказать… с точки зрения высшего нравственного принципа, хотя об этом предпочитал не говорить. По крайней мере, я так понял, когда знакомился в архиве с его делом.
Он предал сам себя, оборвал его Славик.
А вы? Капитан поднял голову, иронически поглядел на Славика и рассмеялся прямо ему в лицо: Вы предпочли предать собственную мать, не так ли? Чтобы остаться самим собой.
Славик невольно сжал кулаки, точно хотел сдержать слезы унижения и бессильной ярости, которые заливали глаза. Да, подумал он с сарказмом, с этим единственным оружием, которое у него еще оставалось. Да, я предал родную мать, но иначе ее жертва была бы бессмысленна. Такова была ее воля. Она так решила! Тем, что я предал ее, тем, что сохранил себя, я осмыслил ее жертву, ибо всей своей дальнейшей жизнью хочу искупить свою вину. Но поймет ли это капитан Штевурка? Возможно, он сказал бы мне, что дело отца нельзя сравнивать с моим делом, что тут нет никакой связи. Кто знает, может, он и прав, подумал Славик, а вслух упрямо повторил: Каждый волен упорствовать в своем заблуждении, если это доставляет ему… так сказать… моральное удовлетворение.
Но капитан, казалось, его не слушает. Она пожертвовала собой ради вас. Она… ради вас, покачал он головой. Потом изучающе посмотрел на Славика и спросил скорей самого себя: Стоите ли вы этого? Он нахмурился и вошел в здание Дворца.
Славик прикусил нижнюю губу, ощутил во рту вкус крови. Какое-то время он стоял в дверях, глядя на удалявшуюся высокую и худую фигуру капитана. Потом пожал плечами, резко повернулся и, выйдя из Дворца правосудия, перешел на другую сторону улицы. Он шел среди скопища людей… так сказать… соотечественников, но слышал лишь отзвуки собственных шагов, тихих и одиноких, все более тихих и одиноких, на асфальте братиславских улиц. Он шел в свою пустую обезлюдевшую квартиру, чувствуя себя приговоренным к пожизненному одиночеству — вечному уделу тех, кто предал.
Раздался гул пылесоса.
В зеркале перед собой через открытую дверь ванной он видел Амалию Кедрову. Она стояла в прихожей, за его спиной, держа в руках шланг пылесоса. На ней было Геленино вечернее платье грязно-розового цвета из шелковой тафты, сшитое в романтическом стиле.
Он закрыл дверь.
Сверху из квартиры пани Клингеровой доносилась мелодия народной словацкой песни; по радио передавали концерт по заявкам уважаемых слушателей. «Ей, убили, убили двух хлопцев безвинных…» — артистически прочувственно и трогательно горевали популярные исполнители народных песен над трагической судьбой Капусты и Урсини.
Славик потянул цепочку сливного бачка, чтобы приглушить словацкую балладу о казанке и виселице, словно надеялся, что тем самым приглушит голос, звучавший в нем самом с неотвязным, неумолимым и безжалостным упорством: Ничего не кончилось! Ничего. Все лишь только начинается!
Читать дальше