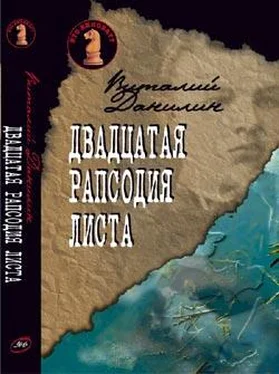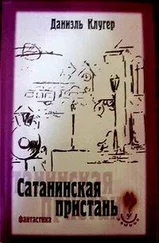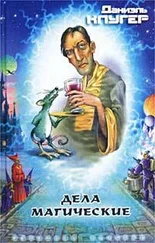Извозчик указал мне дом Соловьевой. Я заплатил ему, слез с саней, не забыв прихватить баульчик, подошел к двери и постучал. Мне открыла сама Мария Александровна. Замечать возраст женщины считается за моветон, тем не менее упомяну, что мы с ней с одного года – тридцать пятого. Го – рести и удары жизни – кончина Ильи Николаевича, казнь сына Александра, арест и тюремное заключение Анны с воспоследовавшей ссылкой, теперь вот и ссылка Владимира – все это, конечно же, оставило на ней кручинную печать: волосы побелели, лицо заострилось, в глазах поселилась скорбь. Однако должен сказать, что выглядела она все равно молодо – куда моложе, чем я, ее сверстник, а уж к красоте Марии Александровны никак нельзя было применить слово «былая». Для меня госпожа Ульянова всегда была образцом красивой благородной женщины, таковой она и будет храниться в памяти, пока рассудок не распорядится иначе своими закромами.
Мария Александровна была в строгом черном шерстяном платье с глухим воротом, поверх которого шею облегало кружевное жабо белой блузки. Седые волосы укрывал черный бархатный чепец с белой оторочкой. Завидев меня, госпожа Ульянова нахмурилась – видно, помстилось ей, будто с усадьбой что-то неладное или, того хуже, привез я недобрые вести о детях. Я бросился заверять ее, что в Кокушкине дела идут лучше не бывает, дети живы-здоровы и шлют ей приветы, о чем и письма, привезенные мною, наверняка свидетельствуют, сам же я приехал в Казань по личным делам и не мог отказать себе в удовольствии нанести хозяйке визит.
Госпожа Ульянова разулыбалась, лицо ее разгладилось (и помолодело еще более), она предложила мне раздеться, пройти в гостиную и выпить чаю с пирогом и вареньем, каковую пропозицию я принял с величайшей благодарностью.
С час, если не больше, провел я в обществе Марии Александровны. Передал письма, отчитался в делах, рассказал о деревенских новостях и прочих забобонах, только вот об утопленниках и убийствах, а тем более о том, что Владимир ввязался в расследование, не обмолвился ни словом, – незачем было волновать достойную женщину, и так на сердце у нее тяжесть немалая, узнает в свой черед, когда эта страшная история получит свое – я очень на то надеялся – справедливое разрешение.
Пирог с вязигой был отменно хорош, чай ароматен и вкусен, варенье оказалось из моих любимых – вишневое, можно было бы и еще посидеть в тепле и уюте, однако не случайно говорят: «Пора и честь знать». Честь требовала освободить хозяйку от неурочного визитера, и честь звала возвращаться в Кокушкино, чтобы как можно быстрее передать Владимиру добытые мною сведения, и честь настаивала, чтобы я до ночи вернулся домой, где меня ждала Аленушка.
Я распрощался с Марией Александровной и вышел на улицу. Морозец усилился. Надвинув поглубже шапку, я направился в сторону Покровской улицы – там проще было найти ямщиков, готовых пуститься в дальнюю дорогу.
Впрочем, мне так и не пришлось искать лошадей – Фортуна распорядилась иначе, хоть я никогда не числил себя в любимцах этой ветреной богини. Едва я вышел на Покровскую улицу и свернул направо, как услыхал знакомый голос и тут же увидал экипаж Феофанова: Петр Николаевич сидел в возке и, открыв дверцу, делал мне знаки рукою. Признаться, я не ожидал, что Петр Николаевич обнаружится в этой части Казани, и тем более не ожидал, что он будет столь любезен. Вот уж поистине: не суди о человеке исключительно по внешности. Сухость Феофанова теперь виделась мне тем, чем она по сути и была, – природной сдержанностью, а неприветливость, надо полагать, объяснялась всего лишь нежеланием навязывать свое общество тому, кто, возможно, не расположен его разделить.
– Далековато вы оказались от Петропавловского переулка, – неожиданно сказал Феофанов, когда мы обменялись приветствиями.
Я немного опешил. Мариинская женская гимназия, к которой, как я сам сочинил Феофанову, у меня было дело, действительно находилась в Петропавловском переулке, но, во-первых, я никому не обещал, что буду к ней прикован, а во-вторых, я ни перед кем и не должен был отчитываться в своих передвижениях по Казани.
Я не нашел ничего лучше, как спарировать:
– Так ведь и Третья гора, любезный Петр Николаевич, где имеет честь пребывать ваш главноуправляющий, не за ближайшим углом.
– О, Николай Афанасьевич, – усмехнулся Феофанов, – у меня в Казани были и другие дела. Стряпчие, крапивное семя…
– Вот и у меня были дела, – отрезал я, тем не менее напустив на лицо улыбку, чтобы не показаться сварником.
Читать дальше