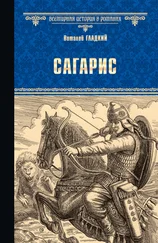Конечно же, после позорного фиаско протрезвевший поручик не пожелал оставаться в ресторане, который напоминал поле боя, и отправился домой, по дороге прикладывая к заплывшему левому глазу хрустящий снег.
Несмотря на то, что и правый глаз являл собой печальное подобие левого, Сасс-Тисовский, когда подъезжали к дому, все же смог рассмотреть человека, который забрался по приставной лестнице на второй этаж и уже открыл окно одной из комнат, намереваясь залезть внутрь. Бравый офицер принял решение незамедлительно: с криком "Стой, стервец!" бросился к вору, тот с перепугу свалился с лестницы в сугроб, где на него Сасс-Тисовский и навалился, пытаясь скрутить ему руки. Ошалевший извозчик в санях только крестился, наблюдая за схваткой, – храбростью он не отличался. Извозчик-то и видел, как из подворотни напротив выскочил другой человек, видимо, напарник вора, подбежал к Сасс-Тисовскому и с двух-трех шагов выпалил в него из револьвера. Затем помог своему товарищу подняться, и уже вдвоем они вышвырнули из саней извозчика и погнали лошадей вскачь.
К утру кони нашлись – сами приплелись в конюшню на Ямской, загнанные до полусмерти. А молодого князя отвезли в больницу в бессознательном состоянии, где он и провалялся почти два месяца.
Воров так и не нашли. Да и искали недолго: наступил февраль, самодержавие пало, и кому было дело до полицейских протоколов с сухим, казенным описанием событий возле особняка княгини Сасс-Тисовской. Правда, поначалу кое-кто из сыскной полиции поспешил нацепить на грудь красный бант в надежде, что их услуги понадобятся и Временному правительству. И все же прежней ретивости блюстители монархической законности не проявляли – страх за свою будущность был сильнее их бульдожьей сущности…
Стояли первые числа морозного февраля.
Звонили к заутрени. Колокол городской церкви медленно ронял на Благовещенскую площадь низкие, глуховатые звуки, которые тонули в сугробах, скатывались с крыш домов в дворики, все еще сонные и голубовато-серые от едва проклюнувшейся зари.
В особняке Сасс-Тисовской светились почти все окна: старая княгиня привыкла подниматься рано, с первыми петухами. В людской шумно, суетливо. Из кухни слышался раздраженный голос повара, который отчитывал кухарок: пора подавать княгине завтрак, а горячий шоколад еще не был готов.
По лестнице, легко и грациозно ступая маленькими ножками, в людскую спустилась горничная княгини, стройная красавица Софка. Остановилась посередине, надменно вздернула брови шнурочками – шум поутих. Мужики заторопились к выходу, а бабы поспешили занять чем-нибудь свои руки: Софка теперь в чести у княгини, вон связка ключей в руках бренчит, напоказ выставила. Бесстыдница, старую экономку во флигель выжила, в сырую комнатенку; мало ей того, что из простых служанок в горничные выбилась, – власти захотелось. Куском хлеба экономку попрекает, велит объедки ей подавать. Недавно полы мыла, а поди ж ты… Чем только взяла недоверчивую княгиню, чем улестила? Судачила дворня промеж себя, на все лады перемывала Софкины косточки, а поперек сказать что-либо боязно было: крутой и решительный нрав оказался у девки…
Хлопнула входная дверь, и в клубах морозного пара на пороге людской появился статный молодец с румянцем на всю щеку. Стряхнул снег с новенького романовского полушубка, энергично потер озябшие руки, прошел к длинному столу, на ходу ущипнув молоденькую служанку. Та ойкнула радостно, заулыбалась, потянулась к нему, да и тут же отступила назад – из кухни вышла Софка. Вслед ей топал толстомясый повар, из прибалтийских немцев, виноватой скороговоркой, от волнения еще больше, чем обычно, коверкая слова, оправдывался за то, что до сих пор не готов завтрак.
– Смотри у меня… – Софка роняла слова скупо, перед собой, не оборачиваясь. – В следующий раз пеняй сам на себя, – милостиво похлопала ладошкой по лоснящейся щеке повара. – Ладно, грешник, иди уж, не лопочи, язык сломаешь.
Повар обрадованно крутанулся на месте и поспешил обратно на кухню.
– Капитон! – Софка подошла к румяному молодцу. – Княгиня велела запрягать. Через час чтобы кони были у подъезда.
– Слушаюсь, ваша милость! – бодро рявкнул Капитон, дурачась. – Софочка… – подошел поближе, шепнул тихо, не для чужих ушей, – соскучился…
– И шкуру медвежью брось в санки, не забудь, – повысила голос Софка, бросив косой взгляд на баб – те насторожили уши; а сама вспыхнула, затрепетала, задышала часто, стояла, как свеча белого воска, под светлосерыми глазами Капитона.
Читать дальше










![Ярослав Питерский - Жертва для магистра [СИ]](/books/412697/yaroslav-piterskij-zhertva-dlya-magistra-si-thumb.webp)