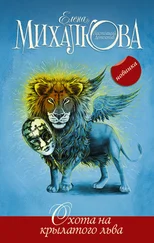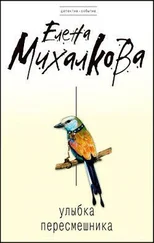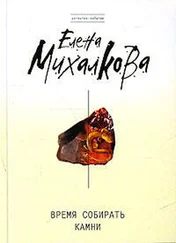— Лелька! Игрушку-то свою забыла! На, возьми!
Отец нашел время поднять ее кнут.
Теперь они перешли на трусцу, и это до смешного похоже на вечернюю пробежку.
Улица безлюдна — пока безлюдна. Но что, если из подворотни выскочит шавка и вцепится в лодыжку ей или отцу? Оля запоздало понимает, как много в ее плане прорех: ткни посильнее — и он расползется по швам. А вдруг не собака? Вдруг это будет человек? Сторожа Ляхова, беспробудно пьющего со дня ухода жены, тоска выгонит из дома — а тут Оля с папой! Бегут себе, как марафонцы.
— Слышь! Ей-богу, не обижу!
Оля косит глазом через плечо. Обидит или нет, но только отец ускорил темп. Кнут волочится за ним по траве со змеиным шуршанием.
По небу беспорядочно несутся клочья облаков. На магазине, мелькнувшем слева, со скрипом раскачивается вывеска. Оля ощущает ветер всей кожей, словно в нее летят струи песка, и ее обжигает внезапной дикой радостью — от их ночного бега, и от ветра, и оттого, что она так легко держит дистанцию между ними. Кровь бросается ей в голову. Девочка словно опьянела от того, что наконец-то отхлестала его кнутом. Вспоминая, как он вздрагивал и закрывался руками, Оля беззвучно хохочет в темноте. Она больше не его вещь! Она врезала ему! Врезала!
Это хмельное буйство не изгнать даже страхом.
— Олька! Мать-то умирает! А ты сбежала!
Улыбка сползает с ее лица. Не отвечать ему, экономить силы! Мама не умирает, она жива, жива! А ты беги за мной, папа. Я знаю, ты взбешен куда больше, чем показываешь, и даже больше, чем я могу представить. Это здорово! Значит, пока все идет как надо.
Но когда окраина поселка остается позади, когда большие желтые окна, каждое из которых таило опасность, съеживаются до иллюминаторов пароходика, уносящего по темным волнам ночи Русму со всеми ее обитателями, вдруг случается то, чего Оля боялась.
Шаги стихают.
Обернувшись, девочка видит, что отец замедлил шаг и бредет еле-еле. В конце концов он встает, упирается ладонями в бедра, бросив кнут.
Они на проселочной дороге. Слева поле, справа лес. Луна то выплескивается на грязно-серое небо водянистым дрожащим пятном, то впитывается без остатка в шерстяную рванину туч.
«Только не возвращайся! — заклинает Оля. — Давай! Беги за мной!»
Все ликование, которое опьяняло ее, выветрилось без следа. Желудок полон холодной земляной тяжести. В ней прорастает страх.
Оля отдала бы все, что у нее есть, чтобы не подходить к отцу. Несколько секунд она торгуется с кем-то, кто с насмешливым равнодушием смотрит на нее из ночи. «Возьми у меня все хорошие воспоминания, и Яму возьми, и пусть у меня каждый день болит живот и выпадут все зубы, только не заставляй меня приближаться к нему!»
Но некому принять ее жертву.
Оля поджимает пальцы ног в своих истершихся чешках. Камешки впиваются в подошвы, когда она медленно, с демонстративной неторопливостью, идет к отцу.
Тридцать шагов между ними. Двадцать. Десять.
— Эй, пап!
Он не двигается. Оля шмыгает и сплевывает на дорогу. Половина ее лица кривится, и, подражая Синекольскому, девочка тянет:
— Пап, слушай… А знаешь, что мама говорит?
Молчание.
— Она говорит, у тебя между ног веревочка. Правда?
Кажется ей или нет, но едва заметная тень на земле вздрагивает.
— Ну скажи-и-и! — канючит она. — Раз уж мы взрослые!
Синекольский обучил ее самым непристойным ругательствам, а заодно просветил насчет физиологической стороны дела. Но даже в эту минуту Оле невыносимо повторять отцу то, что говорил Димка. Смешно! — она собирается его убить, но не может обозвать его хозяйство грубым словом.
«Я должна. Иначе он за мной не побежит».
Непроизвольно она копирует Димкину позу перед дракой — широко расставляет ноги, вскидывает подбородок. Верхняя губа вздернута, нос презрительно сморщен. Вместо лица у Оли сейчас одна из шутовских Димкиных масок, которую их русичка Кулешова называет крысиной. «Не смей показывать мне крысу, Синекольский!» Но Оле нужно быть крысой, злобной изворотливой шельмой. Ее маленький зверек щерится и бьет голым розовым хвостом.
— Мама говорит, ты ничего не можешь. Ты не мужик.
В канаве трещат кузнечики. Ветер усилился, он раскачивает сосны, словно пытаясь заглушить оголтелый стрекот. Слева за Олиным плечом — ферма Бурцева. Отсюда ее не видно, но девочка знает, где она, тверже, чем если бы на нее указывала стрелка компаса.
— Ты поэтому ее бьешь, пап? Боишься, она трепать начнет? Ну и правильно. Она уже бабам своим на работе растрезвонила!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу