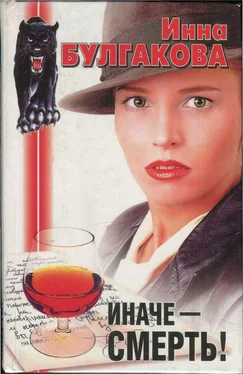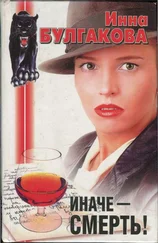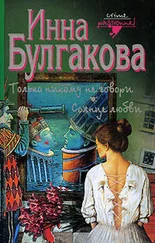— Кому?
— Мне.
— И ты на себя взяла бы признание убийцы?
— Я бы справилась.
Вот это праховская порода, это сила! Я смотрел в окно и был на пределе, только бы — вот так! — чувствовать ее рядом. Но смогу ли я такой энергии соответствовать?..
— Что было дальше? — спросила Мария угрюмо.
— Дальше? Что — дальше?
— Вы вспомнили разговор с братом…
С почти физическим усилием я вернулся к криминальным подробностям, восстанавливая тот путь, что привел меня к разгадке.
— В той сцене мелькнула — я вспомнил, но поздно — одна незначительная как будто деталь, проговорка. Я впервые сказал Василию о черном монахе в саду.
— В вашей хламиде?
— В том-то и дело. «Призрак без лица», — я выразился. Мне вспомнилась картина Нестерова: вестник из иных миров, гений не посмел изобразить его лицо. Какая дьявольская усмешечка в нашем падшем мире… «А, черный капюшон», — заметил Василий. Он был тоже на пределе: впервые проявился тот неизвестный, которого в сумятице небесных стихий он кощунственно осенил крестным знаменьем.
— Он никогда не видел подарка вашей жены?
— Никто не видел, кроме тебя. Убитой и убийцы. И вдруг — «черный капюшон»! Стало быть, видел? Стало быть… Из парка я поспешил сюда. Зачем, несмотря на предпраздничную суету, Марго так упорно разыскивала этот журнал — одну страницу? Что могло заинтересовать ее до такой степени? Почему она сказала про отца и Татьяну, которые мучились годы: «Умерли хорошей смертью»? Я перебрал все свои словари: ни в одном из них не было слова «эвтаназия» — экзотический в нашем обиходе термин. Зато в «Четырех Свободах»: «Человек должен иметь божественное право выбрать свой конец. Эвтаназия [2] хорошая смерть (др. греч.)
до сих пор считается убийством. Нет и нет! — утверждают борцы за права человека. Разве не милосерднее прекратить предсмертные муки или оборвать никчемную жизнь безумца? Настоящий гуманист — тот, кто возьмет на себя ответственность за безболезненный уход обреченного в вечность!»
— Жуть какая-то! — воскликнула Мария.
— Гуманисты не знают, что в вечности существуют ад и рай и придется держать ответ.
— А ведь в вашем романе…
— Да, я употребил это слово. Марго услышала на другой день в воскресенье, когда я читал концовку. Но она уже знала — это умерщвление, убийство — и сказала мне на прощанье: «В реанимации разберутся». В реанимацию после смерти Татьяны перешел работать мой брат. Я нашел у себя стихи его Ольги: «Ты со мной или нет? И я жду, не поняв: полумрак, полусвет, полусон, полуявь. Грозовой перевал одолеть, перейти, и опять, и опять — ждать!» Это о нем, о той грозе, в тот вечер, когда произошло убийство.
— Вы очень умны, Леонтий Николаевич, вы догадались о таком ужасе…
— Слишком поздно! — резко перебил я.
— Вы собрали сюда всех, уже зная, кто убийца?
— Нужно было проследить и прояснить все версии, чтоб поверить в одну-единственную. Я не хотел верить — нет доказательств, нет улик. Ты его не опознала.
— Когда он стоял в дверях, а вы подошли и положили ему руку на плечо…
— Я хотел, чтоб ты нас сравнила.
— Я сравнила. Да, тогда ночью на улице мог быть он. Но ведь ты предупредил меня, что ни в коем случае не станешь делать публичного заявления. Ты хотел остаться с ним наедине?
— Ты правильно угадала.
— Леон, в тот момент я стала счастлива.
Я замер. Слишком многозначительны были эти слова. И мучительны — если только слова. У меня ни в чем не было уверенности. Наконец выговорил:
— Мария, я не знал, что люблю тебя.
Она усмехнулась.
— Конечно, не знал, если тогда в саду даже не узнал.
— Не осознал — вот в чем тайна. Я помнил тебя ребенком… и потом, потом. Все вспомнил — потом. А тогда я был слишком захвачен романом. Я написал о тебе.
— Я этого не поняла и не понимаю.
— Моя жена поняла. И сын. Что тебе непонятно?
— Как можно так любить.
Я заглянул в глаза напротив, в их золотую головокружительную глубину. Мария вспыхнула.
— Конечно, этот упрек легко вернуть мне. Я вела себя… Ты сказал, что я…
— Да! Измучила и свела с ума.
— Прости.
— Не за что. Ты не уедешь?
— Нет. Пока ты меня сам не выгонишь.
— Никогда.
— Значит, я с тобой.
Потом она ушла, а я, по ее выражению, стал счастлив. Как представлялось, предвкушалось — выложил на стол чистые листы бумаги, раскрыл авторучку и начал:
«— Эвтаназия — не убийство, а своего рода милосердие, доступное лишь избранным! — проговорил Петр и поднес к губам сверкающую чашу, отпил. — Ты избранный!
Читать дальше