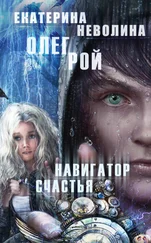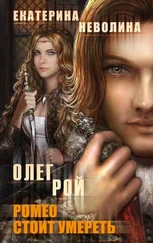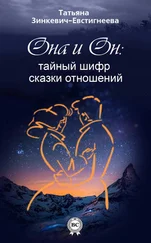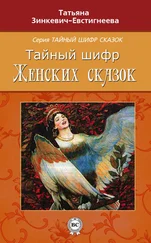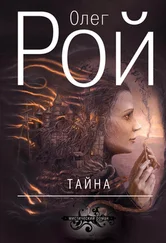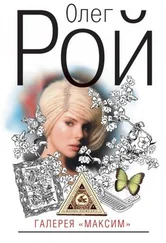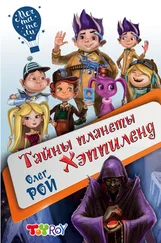«Он как Крысолов со своей флейтой, – писала она, – а я как ребенок, который идет за мелодией и не может, не хочет, не в силах остановиться, освободиться, не слышать и не видеть».
Уникальный художественный стиль, который начал проявляться у Зеленцова уже в студенческие годы, был близок к модернизму, к которому в Советском Союзе шестидесятых годов относились снисходительно-скептически. Деятелей этого направления, выросших на отечественной почве, всерьез не воспринимали. При этом на Западе на произведения российских модернистов, в силу их дефицита и самобытности, спрос неизменно возрастал. Ну а в партийно-хозяйственном активе сидели отнюдь не дураки. Не снижая давления (так как это в некотором роде обеспечивало качество исходящего продукта), они монополизировали торговлю этими произведениями искусства. То есть потихоньку продавали на Запад то, что в отечестве не ценили, имея на этом неплохую прибыль. Очень рационально.
Маргарита была одним из немногочисленных и абсолютно непубличных специалистов по «советскому модернизму». Искусство – штука субъективная, поскольку ориентируется на чувства, не поддающиеся количественному измерению. Абстрактное искусство субъективно в квадрате. Но Маргарите удивительным образом удавалось отличать подлинные шедевры от халтуры. Отобранные ею работы неизменно оказывались коммерчески привлекательными. Сейчас это назвали бы, вероятно, «чувством рынка». За это чутье ее ценили, держали на особом счету, позволяли многое. А она пользовалась этим для того, чтобы помогать Зеленцову. И не только потому, что, по ее мнению, он был гениальнее всех остальных, но вскоре – и из личного пристрастия. Сам же Андрей воспринимал ее помощь довольно равнодушно. Как будто для него это не имело никакого значения. Впрочем, и правда не имело.
«Мы вместе, – писала она, – и в то же время чудовищно далеки друг от друга. Как попутчики на одном мотоцикле. На первый взгляд они очень близки, фактически в объятиях друг друга, но… Нет, лишь попутчики, которым конструкция транспортного средства не позволяет расположиться по-другому. И страшнее всего – не скорость, не виражи, страшнее всего – ждать, когда машина прекратит движение…»
На память об отце у нее оставались несколько листов пожелтевшего довоенного ватмана с видами Кронштадта. Отец показал ей, как на них нужно смотреть. Это было как волшебство: строгие линии крепостных бастионов, грозные контуры боевых кораблей, барашки на темных волнах, почти касающиеся низкого балтийского неба, вдруг превращались в портреты маленькой смеющейся девочки. В ее собственные портреты…
В этом месте я на миг прервался и поднял взгляд от пожелтевшей тетради. Перед моими глазами, как наяву, возникла лампа из Тихвинского монастыря…
Зеленцов увидел скрытые изображения сразу. Потрясенный, он перебирал сухие листы, вглядываясь и поворачивая, поворачивая и вглядываясь. Но в дар не принял, сказав, что ему вполне достаточно было их увидеть, что это само по себе величайший дар, который только возможен.
И, разумеется, отблагодарил ее за это. Ну… уж как умел.
Какое-то время Маргарита была на седьмом небе от счастья.
«Он вовсе не монах, – писала она, – не аскет, просто искусство значит для него гораздо больше, чем женщина. И когда эта страсть оказывается нацелена не на бумагу, а на меня, пусть ненадолго, это почти невыносимое, ослепительное наслаждение. Он гений! Он должен сверкать на небосклоне мирового искусства, это звезда масштаба Пикассо и Дали…»
Маргарите мало было смотреть, как «ее художник» творит – ей нужно было, чтобы об этом гремел весь мир. Она пыталась ввести Зеленцова в «нужные круги», знакомить с «нужными людьми», вытаскивать на «нужные мероприятия»… хотя самому ему нужно было только рисовать.
Однажды она попыталась свести его с перспективной на тот момент группой «Новая реальность», благо удобный случай подвернулся: один из белютинцев, чей папа был высокопоставленным хозяйственником, пользуясь отъездом родителей, устроил в квартире, занимавшей чуть не целый этаж арбатского особняка, что-то вроде арт-салона для «коллег по цеху». Половина выставляемых здесь картин, на взгляд Маргариты, была откровенной халтурой, лишь кое-что выглядело довольно любопытным. Но все эти полотна, вместе взятые, не стоили – она готова была в этом поклясться чем угодно – двух-трех штрихов первой зеленцовской работы, выполненной в манере ее отца.
Белютинцы на Зеленцова впечатления не произвели. Он мрачно разглядывал выставленные картины, еще мрачнее слушал «рассуждения об искусстве будущего», к которым был особенно склонен один из присутствующих, благодаря настырности и многословию уже прослывший среди начинающих мэтром и авторитетом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
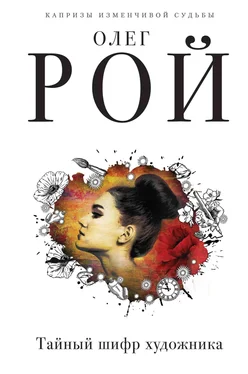
![Олег Рой - Неудавшийся поход [с цветными иллюстрациями]](/books/33886/oleg-roj-neudavshijsya-pohod-s-cvetnymi-illyustraciya-thumb.webp)