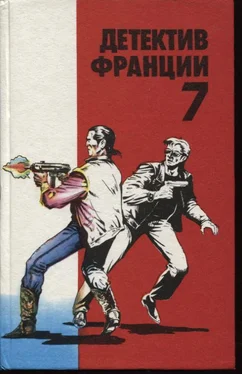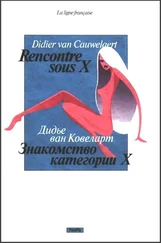Внезапно высвеченная, передо мной во всех деталях предстает дикая, опухшая физиономия с глазами потревоженной средь бела дня совы.
— Привет, Дэдэ, — мило здороваюсь я, вталкиваю его в помещение и вхожу следом. Осматриваюсь и преисполняюсь к обитателю хибары невольного уважения: он умудрился свести проблему меблировки практически к нулю. Похоже, в душе этот тип — своего рода авангардист. Посреди комнаты он водрузил ванну в стиле Карла Десятого, доверху набив ее сеном. Ночью она служит ему кроватью, а днем, накрытая крышкой, — столом. На секунду задумываюсь: достанет ли у кого-нибудь ума, когда обитатель хибары преставится, отпилить у ванны ножки? Получился бы первоклассный гроб…
На хлипкой этажерке замечаю керосиновую лампу, а на полу — коробок и рассыпанные спички.
— Как думаешь, Дэдэ, — как можно дружелюбнее обращаюсь к мусорщику, — если зажечь эту лампу — сможем мы увидеть друг друга?
— Спички отсырели, — хрипит он.
— Просто ты не знаешь, с какой стороны они зажигаются. Сейчас посмотрим.
Я зажигаю лампу, поправляю чадящий фитиль и засовываю мой электрический фонарик в карман. И тут же разражаюсь гомерическим хохотом, только сейчас обратив внимание на изысканность костюма собеседника. Кроме залатанной рубашки, на нем ничего нет. Однако он настолько не отошел после вчерашнего, что ему совершенно наплевать, прикрывает какая-нибудь тряпка его яйца или они болтаются на свободе. Сейчас он куда больше озабочен тем, кто это столь неожиданно к нему пожаловал.
— Здравствуйте, — вежливо бормочет он.
Я тронут.
— Почему бы тебе не надеть свои штаны, Дэдэ? — столь же вежливо интересуюсь я.
Он наконец замечает, что не вполне одет, и торопливо запихивает свое жалкое мужество в вытертые вельветовые брюки.
— Не пугайся, дорогой, — продолжаю я, — мне только нужно кое о чем тебя спросить.
— О чем это? — каркает он.
— Помнишь ту белую собаку, которую задавили на дороге? Что ты с ней сделал?
— И вы о том же? — бормочет пьяница.
— Как это — о том же? — я аж подпрыгиваю от неожиданности.
Дэдэ трет глаза и, судя по всему, отчаянно пытается привести в действие свои одеревеневшие мозги.
— Чевой-то? — вопрошает он.
— Почему ты сказал, что я о том же?
Он снова трет глаза, и, кажется, на сей раз туман в его голове малость проясняется. До него потихоньку начинает доходить, что мое присутствие в его хибаре в такой час не соответствует не только правилам приличия, но и французскому законодательству.
— Чего вы от меня хотите? — ворчит он. — Собаку? Нет у меня собаки.
И я внезапно вижу в его глазах безумный страх. Та-ак! Это еще откуда? Чего он так внезапно испугался?
— Я не говорю, что у тебя есть собака, дружище, — увещеваю его я, — Просто хочу поговорить о белой собаке. Помнишь, ты подобрал ее на дороге? Куда ты ее дел?
Дэдэ не отвечает, лишь молча переминается с ноги на ногу.
— Не стоит играть в прятки, — мягко говорю я. — Отвечай лучше: куда ты задевал ее скелет?
И тут начинается непредвиденное: Дэдэ плачет. Я обескуражен. Он ревет, как маленький, задыхаясь от рыданий, смахивая грязными лапками слезы, пуская слюну и подвывая. У меня внутри все аж переворачивается, как машина на ходу во время гололеда.
— Ну, папаша, — мурлычу я, кладя руку ему на плечо. — Что это с тобой приключилось? Что за страшное горе?
— Это не я, — хнычет Дэдэ. — Правда, не я.
— Что не ты?
— Не я взял ее ошейник!
А, парни? Признайте, что у крошки Сан-Антонио есть нюх! Каким идиотизмом казалось с первого взгляда искать этот злосчастный собачий труп. Я, правда, и до сих пор не знаю, зачем он мне нужен, — чтобы это выяснить, надо переждать, когда Дэдэ перестанет хныкать. Не трудно сообразить, что его слезы в немалой части состоят из выпитого вчера красного вина. Из всех человеческих огорчений огорчения пьяниц — самые искренние, но и самые короткие. Не проходит и нескольких минут, как мой собеседник обретает утраченное равновесие. Он успел отрезветь, и взгляд его меняет выражение. Теперь передо мной не престарелый мальчик, витающий в облаках, а крестьянин, унаследовавший от бесчисленных поколений предков хитрость и недоверчивость. Рот у него на запоре, а глазки так и бегают.
— Вот и хорошо, Дэдэ, — одобрительно кидаю я. — Вижу, ты снова в форме. Читать умеешь?
Он кивает.
Достаю удостоверение.
— Видишь? Большими буквами: «полиция».
Для любого обывателя это конец. Когда перед ним произносят это слово, он вянет, как осенний салат. Дэдэ — не исключение. От испуга он икает. Потом его охватывает дрожь.
Читать дальше