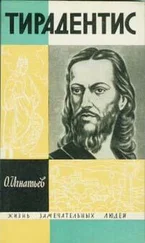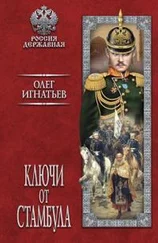— Значит, художник, — Чабуки возбужденно сел в постели, спустил ноги на пол. — Стакан самогону, макитру вареников.
— …вообще… я…
— Никаких «вообще»! От трупа просто так не отмахнешься! Это ты во сне шумел: «От трупа просто так не отмахнешься».
— Может…
— Не перебивай! — Чабуки взбил подушку, обхватил ее, прижал к груди. — Сегодня утром ты идешь к врачице…
— Так.
— И говоришь, что ты маляр.
— Художник?
— Не перебивай. Вконец затуркати народ. Слушай-молчи.
Сомнамбулический транс какой-то, ошарашенно подумал Климов и впился ногтями в кожу бедра: не снится ли ему? Да вроде, нет. Боль настоящая. Он ощутил на пальцах кровь.
— Сделаем так.
Чабуки отшвырнул подушку, уперся руками в колени. Вид у него был заговорщицкий. Климов подумал, что так размашисто жестикулируют в театре и еще когда решают жить по-новому, вышвыривая за порог отжившее старье: какие-нибудь латаные-перелатанные брюки или туфли с отвалившейся подошвой.
— В больнице сейчас стройка. Строят цех для трудотерапии. Сетки там вязать, халаты шить, — Чабуки прохиндейски ухмыльнулся. — Им позарез нужны строители. Побелка стен, окраска рам… А ты маляр! Сообразил?
— Что-то не очень.
— Тьфу! — обозлился Чабуки. — Никогда не обращайтесь в суд, если вы там не работаете.
Он поманил Климова, наклонился сам и стал нашептывать план действия.
Утром Климов первым делом доложил медсестрам, санитарам и Людмиле Аникеевне о своем «душевном просветлении». Иными словами, он высказал им всем свое сердечное спасибо за лечение, которое пошло на пользу. Теперь-то он пришел в себя и твердо знает, что он не кто-нибудь, а Левушкин Владимир Александрович, художник-оформитель. Человек, соскучившийся по работе.
— Руки дела просят, — с услужливой расторопностью толкнул он дверь ординаторской и увязался следом за врачом, — Людмила Аникеевна…
— Мне жалуются сестры, вы отказываетесь от еды.
— …кусок в горло не лезет.
— Это еще почему? — с наигранным укором в голосе казенно озаботилась пампушка, считавшая себя достойной ученицей Озадовского, и поспешила спрятаться за стол, вернее, наклонилась за упавшей авторучкой, которую задела рукавом.
— Стыдно за себя: хлеб даром ем.
— Похвально, Левушкин. Очень похва…
Она разогнулась с красным от прихлынувшей крови лицом и поправила на голове колпак. Глаза у нее сегодня были подмалеваны голубой тушью, и это могло говорить о том, что дома у нее все хорошо.
Умостившись за столом, она покрутила в пальцах авторучку, приподняла подбородок.
— И что же вы хотите?
— Я маляр, строитель… — Климов продолжал стоять. — Все, что могу…
Пампушка озадаченно молчала.
— И маляр?
— Первостепенный! Стены, окна, потолки, — не моргнув глазом, соврал Климов. — Полы, двери, все могу, — он даже приложил ладонь к груди, где учащенно билось сердце, и заискивающе улыбнулся. — А? Людмила Аникеевна?
— Опохмелиться тянет?
— Упаси Господь! — притворно забожился он и снова прижал руку к сердцу. — На дух не хочу.
Пампушка просияла: результат лечения был налицо. Глаза ее счастливо засветились.
— Осознали, Левушкин?
— Спасибо вам, век помнить буду…
Почтительная робость, пугливое изумление, чистосердечное признание за чуткость и заботу окончательно расположили к нему ученицу Озадовского. Как и следовало ожидать, она самодовольно усмехнулась, вспомнив, как он называл себя сотрудником милиции, майором, и часа, наверное, полтора читала лекцию о пользе трудотерапии. А он все это время лишь о том и думал, как попасть в «команду выздоравливающих». Его сосредоточенно-покорный вид настолько убедил пампушку в своей значимости и незаменимости как психиатра, что, когда она задним числом уличила его в контаминации — в смешении нескольких событий при их описании, он не стал ее разуверять. Ни в коем случае! Напротив, он еще раз подчеркнул, что самой ее прекрасной особенностью является то, что она умеет угадывать в людях талант, и верит им, и лечит… А это, говорят, по силам лишь профессору, который знает все болезни и их тайны.
Людмила Аникеевна зарделась.
— Кто говорит?
— Да все! — простовато вздернул плечи Климов и кивнул на дверь. Чувствуя, что ему удалось растопить пампушку своей лестью и она уже плывет в душе, как масло по сковороде, он позволил себе вспомнить тех, кто ошивался в коридоре, кто отправлен был в палаты «хроников», назвал всех нянечек, сестер и даже… санитарку Шевкопляс.
Читать дальше