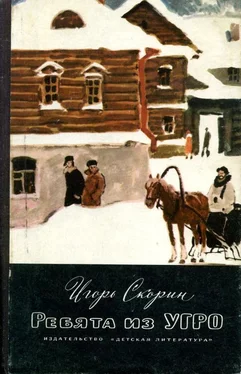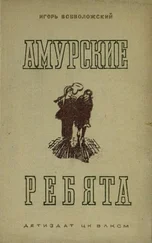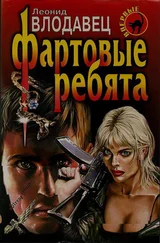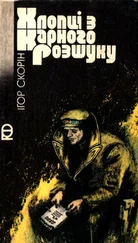— Последнее время работал в Нерчинске старшим уполномоченным, — рассказывал Лисин. — А тут вызвали в Читу и велели ехать в Петровск-Забайкальск, принимать у тебя дела. Слушай, Дорохов, а как тут с жильем?
Но Сашке почему-то не захотелось навязывать Лисина Дормидонтовне, и он пожал плечами: найдешь, мол, чего там.
Горько было расставаться с городом, к которому привык, с друзьями-сослуживцами. На вокзале провожавшие пытались шутками и смехом развлечь Сашу. Простатин, заметив пристегнутый к рюкзаку большой охотничий нож в деревянных ножнах, даже засмеялся:
— Ножик-то, ножичек зачем в Читу берешь? Оставил бы Дормидонтовне лучину колоть. Там на охоту уж не походишь. Будешь сутками в кабинете сидеть.
Лисин, стоявший рядом, достал из кармана складной перочинный нож с множеством лезвий и предложил тут же меняться. Но Саша поначалу отказался. Он дорожил своим ножом: выковал его местный кузнец из обломка меча, завезенного в Сибирь, может быть, еще самим Ермаком, — но тут же подумал, что действительно в Чите более удобен складной нож, и под общие увещевания и смех в конце концов поменялся.
На первом же полустанке поезд задержали. Саша решил узнать, в чем дело, вышел в тамбур, соскочил на платформу. Его сразу ударило, захлестнуло морозным вихрем, прижало к ступенькам. По другим путям навстречу шел воинский эшелон. Вместе с клубами пара из теплушки вырвалась, кружась над составом, незнакомая песня:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…
Слова полоснули Александра. Запершило в горле. Вспомнилась сводка, что слушал днем. Фашисты получили по зубам под Москвой, но прорвались к Ленинграду, захватили половину Украины. Даже в Петровск-Забайкальске появились эвакуированные — женщины, дети и старики. Их сразу можно было отличить от местных, и не только по одежде, не приспособленной к сибирским морозам, а по изнуренным лицам, застывшей в глазах тоске.
Дормидонтовна привела к себе в дом бабку с мальчонкой семи лет. Он какой-то заморенный, запуганный. Хлопнет во дворе калитка, а он дрожит, озирается. Про бабку и говорить нечего. Приехали они из-под Смоленска. Старушка рассказывает и плачет: бомбежки, пожары, голод…
Дорохов вернулся в вагон, забрался на свою полку и попытался заснуть. Но перед глазами вставали то Боровик, сбежавший на фронт, то мальчонка, поселившийся вместо него. Перед отъездом Саша отдал Дормидонтовне всю мебелишку, которой обзавелся за это время, а эвакуированной старухе — свою дошку. Сам он уезжал в полушубке, что недавно получил как обмундирование. Мальчишке добыл валенки. Уже собрался уходить, а тут подошел этот пацан и попросил:
— Ты их убивай побольше, дядя Саша!
— Кого? — Не сразу понял Дорохов.
— Да фашистов. — И мальчик серьезно пожал ему руку.
…Как же убивать их, когда поезд несет его совсем в другую сторону, дальше от смертного боя и народной войны! Как жить ему, Дорохову, думал Саша. Написал кучу рапортов, писал о том, что с отличием закончил школу снайперов, доказывал, что может быть разведчиком… И все без толку… В разговоре с военкомом мелькнула надежда… А теперь все рухнуло. Ворочаясь с боку на бок, он так и не заснул до самой Читы.
На читинском вокзале его встретила женщина. Она смотрела с огромного полотна, прижимая к груди ребенка. Ветер колыхал холст, и казалось, что лицо и губы ее были живыми. Мать вопрошающе протянула вперед руку, и слова, написанные внизу, воспринимались не глазами, а сердцем, они звучали громко, на весь вокзал, на всю площадь, спрашивая его, Сашу: что он сделал для фронта?
Дорохов шел от вокзала пешком, отмечая про себя перемены. Всегда многолюдные, читинские улицы опустели. Навстречу попадались солдаты и командиры в одиночку и группами. Прошли строем несколько подразделений, с оружием, с полной выкладкой. Саша остановился, рассматривая роту солдат, вооруженных автоматами. Это оружие было редким, а тут целая рота. Штатской публики почти не встречалось. До управления всего три квартала, но Сашу дважды останавливал комендантский патруль. Только при второй проверке он сообразил, что его полушубок и шапку принимают за общевойсковую форму. Возле магазина, где когда-то покупал хлеб, вытянулась длинная очередь — старухи, женщины и несколько ребят. Мужчин в очереди не было. На весь длинный хвост два старика.
На службу он шел как на каторгу. Зачем ему это повышение? Фронт — вот куда ему надо. Отец прислал письмо, длинное, почти на четыре страницы, сроду таких не писал. Все советы, советы — на все случаи жизни, а под конец просьба не оставлять мать. Видно, не рискнул прямо написать, что ждет отправления на фронт. Отец будет воевать, а он, молодой и здоровый, проторчит в тылу. Кончится война, как он людям в глаза посмотрит?
Читать дальше