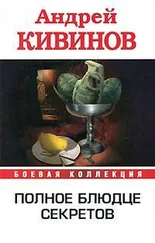Первый день допросов был тяжелым, изнурительным, изматывающим; нервы напряглись до предела — и у тех, кто допрашивал, и у тех, кто, спасаясь, лгал, ловчил, изворачивался или даже молчал. В этой дуэли, как в шахматах, многое зависело от начального хода.
Отправив Говоркова назад, в камеру, после трехчасового бесплодного разговора, Олег вышел в коридор, потирая виски. Его вызвал к себе Буяновский, начальник отдела милиции.
— Ну что там? — спросил он с живостью, едва Олег появился на пороге. — Садись.
— Пока разговоры обо всем и ни о чем. Сначала молчал — ни звука, примерно с полчаса. Потом надоело, стал рассказывать про себя, про деревню, про всех родственников.
— Ничего, пусть выговорится… и все же, я думаю, Раков «расколется» первым. Вот увидишь. Могу на спор.
— Почему?
— Да так… Небольшой секрет… Вот что, Олег, тут мы бумагу одну получили, прочти.
Олег взял тонкий прозрачный листок с приказом. Приказ начинался, как обычно, с констатирующей части. Пробежав глазами без особого внимания эти фиолетовые строчки, Олег перешел к самому существенному. В пятом пункте говорилось, что лейтенанту милиции Кунгурову О. В. объявляется выговор за «недобросовестное отношение к своим обязанностям».
Лицо Олега стало серым. Он кинул приказ на стол, поднялся и сказал сухо:
— Все? Можно идти?
— Что же ты ничего не спросишь?..
— А что спрашивать. Вспомнили! Полгода прошло. Я же тогда только из отпуска пришел. Полесьев прохлопал, а при чем тут я?
Случай был перед Новым годом. Тогда оперативники городского управления раскрыли на Олеговом участке притон. А потом выяснилось, что Женька Полесьев тоже о нем узнал, но разгромить не успел, опоздал.
— Так и Полесьеву тоже выговор. А земля-то чья? Твоя…
Из кабинета Буяновского Олег вышел обиженный и обозленный. Его разозлил не столько сам выговор, сколько сопровождавшая его формула, беспросветно унылая, безликая и универсальная, — «за недобросовестное отношение к своим обязанностям». Он понимал, что существует особый язык приказа, что существует набор общепринятых формулировок, годных на все случаи жизни. Но его оскорбляла примитивность логики: раз прошляпил — значит, недобросовестен. Можно было снести любой упрек, но только не этот, потому что он был несправедлив.
Олегу стало жаль себя. А жалость потянула за собой никчемные мысли: стоит ли мотаться с утра до ночи, думать, нервничать? Ни чести, ни славы, и те же деньги, которые можно заработать на обычном заводе, стоя у станка всего-навсего по семь часов. И тогда можно будет и учиться не спеша, и читать, и Петька…
Четверть часа спустя Олег снова пришел к Буяновскому. Начальник взял рапорт, прочитал его и, перевернув написанным вниз, отложил. Он сам был молод и представлял, что на душе у Олега.
— Мне рассказывали, — сказал Буяновский, — про военный устав одной армии, не помню какой, немецкой или французской, ну, неважно… Так вот, по этому уставу офицеру запрещено накладывать взыскания на провинившегося сразу после происшествия, а только через сутки или двое. То есть тогда, когда улягутся страсти и разум возьмет верх над чувствами. Мудро. Нервозность никогда никому и ни в чем не помогала.. Поэтому возьми свой рапорт хотя бы до послезавтра. Сейчас тебя занозит обида. Сердишься, Ну и не о том думаешь. Надо проще смотреть на вещи. Мы тебя ценим и, конечно, будем всячески препятствовать твоему уходу.
— Цените? Цена мне грош, если я недобросовестный. Где же здравый смысл?
— Ну, предположим, формулировка ошибочная. Что тебе-то? Это никуда не идет, ни на что не влияет. Будь ты выше этого. Ведь ты работаешь не за чины и ордена и не ради каких-то там особых, бешеных денег. Этот приказ носит прежде всего воспитательный характер для других, а не только для тебя… А ты раскроешь преступление, и выговор снимут.
— Не знаю, что это за воспитание. После этого я лучше работать не стану. И я не манекен для воспитания других, а человек, и хочу, чтобы уважали мое человеческое достоинство. Хотя бы за то, что я работаю не за чины и ордена. — Олег взял рапорт, сложил его вчетверо и вышел.
Разговор с Буяновским не облегчил его состояния. Он по-прежнему чувствовал себя оскорбленным, несчастным и одиноким, и ему захотелось сесть и разреветься, растирая кулаками слезы по лицу, как в детстве. И чтобы его поцеловала в макушку мама. Тут он вспомнил, что в кармане у него лежит листок с номером Тамариного телефона. Если б ему удалось поговорить с ней, думал он, хоть о каких-нибудь пустяках, стало бы легче.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
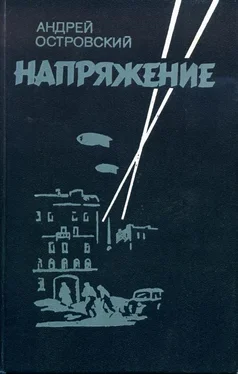
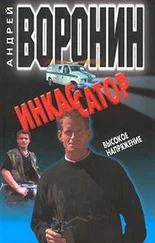
![Роман Сенчин - Постоянное напряжение [сборник]](/books/32387/roman-senchin-postoyannoe-napryazhenie-sbornik-thumb.webp)