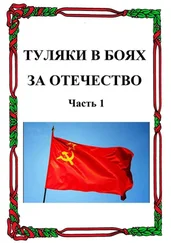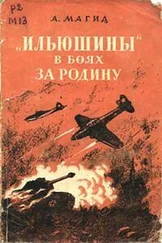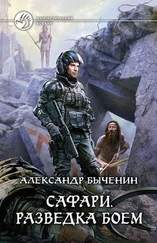«Как там говорил Цапа? До 1914 года, пока еще все нормально было, – припомнилось Терцеву. – Эх, Васька, Васька, устами младенца…»
Все же было очень горько от того, что существовал вот этот офицер со своей правдой, со своей борьбой со злом. И отрицать его существование было бы неправдой, а игнорировать – полуправдой, что тоже ни к чему хорошему в конечном счете для прояснения и понимания происходящих событий привести не могло. И есть Егорыч со своим крестом. И оба заслужили кресты, выполняя когда-то одно общее дело. Есть они все, в конце концов. Так разве борьба со злом не является одним общим делом? А сейчас? Стоп, дальше не надо. Тем более что все равно дальше они пока что упирались прежде всего в это самое абсолютное, черное и кровавое зло, четыре года сплошным фронтом стоявшее перед ними, приговор которому при любом раскладе мог быть только один – извести его под корень.
Но совершенно очевидно, что за этот сбой или противоречие и Европа, и мы заплатили и продолжаем платить последнюю четверть века. В конце концов, они же не слепые, чтобы не замечать очевидное: концлагеря не только освобождали, но и оставляли за спиной.
Эта война, без сомнения, будет выиграна. И это будет справедливо. Потому что у них за спиной семья старшего лейтенанта Малеева, которую сожгли. И они знают, кто это сделал. И это для них всех перевесит все остальное на белом свете. Сейчас и всегда.
А что потом? Победителей задушат в объятиях, чтобы не было слышно их голоса? Ясно одно – крови достаточно. Горе прокатилось абсолютно по всем. Но кто привел ко всему этому в таких масштабах? Все ли зло будет уничтожено по окончании этой войны? Они же не дураки, в конце концов, чтобы не задаваться этим вопросом. Война, помимо всего прочего, научила их мыслить прямо и смело. И по всему выходило, что нельзя ограничиваться только этими четырьмя пусть и чудовищными, страшными годами. Нужно мыслить хотя бы на несколько десятков лет назад. А вперед?
Терцеву в какой-то момент с такими мыслями стало страшно от века, в котором они жили. Но времена, как известно, не выбирают. Да и не привык он отворачивать. Это как при танковом таране. А уж тут майор не понаслышке знал, о чем идет речь. Тут уже не клянешь судьбу за то, что она посадила тебя за рычаги. Ты выполняешь то, что должен, при любых обстоятельствах, в которых оказался. И только так действительно не страшно, даже от мыслей…
А еще Терцев замечал, что Европа, в которую они сейчас входили, все-таки средневековая. Не было в ней никакого прогресса. Потому что суть настоящего прогресса – духовная. Поразительно, насколько дальше и выше ушли от нее мы, даже в нашем, чего греха таить, искалеченном за последние лет тридцать состоянии. Речь не о превосходстве. Это не то слово. Речь о нашей зрелости душ по сравнению с ними. И это после всего того, что у нас творилось дома. Старший лейтенант Малеев убивал солдат противника. И если бы дошел сейчас до Германии, то продолжал бы это делать с тем же упорством, что и раньше. Но ему и в голову не пришло бы поступить с немецкими женщинами и детьми так, как эти солдаты противника поступили с его семьей. И в этом была главная разница между ним и ими. Никто бы из шедших вместе с Терцевым боевых товарищей не запер специально их на ключ и не поджег. Вне зависимости от того, какого горя бы они ни хлебнули перед этим. Потому что шли с вырезанными из консервных банок крестиками в нагрудных карманах, с зашитыми в рукава гимнастерок 90-ми Псалмами. С молитвами, тексты которых были записаны на сложенных в несколько раз листочках в клеточку из обычных школьных тетрадей. Это только то, что Терцев знал о себе и своих товарищах. То, что видел своими собственными глазами. Вот такие они все получались скрученные в узлы, вывернутые наизнанку и снова распрямленные обратно. А немцы бежали перед ними, эвакуировали, когда могли, свое мирное население. Поскольку мерили по себе. Так о чем тут говорить? Они вступали в край дикого и варварского Средневековья с пытками и кострами инквизиции, скрывавшегося под лоском материальных благ цивилизации…
На улицах городков и деревень, которые они штурмовали или занимали без боя, лишь только наступало затишье, тут же к русским полевым кухням выстраивались длинные вереницы немецкого мирного населения. Конечно, бывало всякое. Поговаривали и о грабежах, и о насилии, и о жестоком обращении. Терцев усмехнулся – вспомнились немки, дисциплинированно готовые на все, раз их мужчины проиграли войну. Это тоже такое примитивное Средневековье. Один раз проезжавшие танкисты видели, как солдатик, раздававший на площади хлеб, сначала непонимающе чесал в затылке, потом покраснел, а затем прогнал их взашей. Но уже розданный хлеб не отобрал. Немки, испуганно прижимая буханки к груди, покорно перебежали на другую сторону площади. В России такую картину с нашими женщинами невозможно было представить, как бы ни шли у нас дела.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
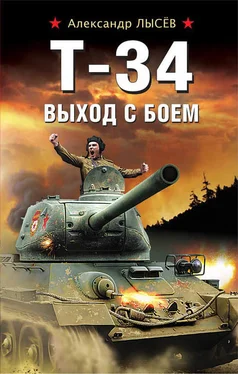
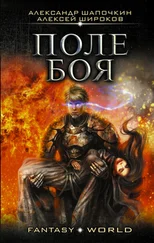
![Александр Шапочкин - Поле боя [СИ]](/books/33026/aleksandr-shapochkin-pole-boya-si-thumb.webp)