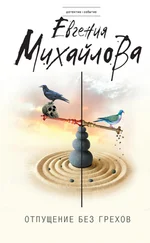И, как ни парадоксально, в голове все еще крутились мысли. Не бог весть что, разумеется, но все же: как глупо все получается, как хорошо все начиналось и прочее в том же духе.
А потом откуда-то из неведомых глубин, с самого дна Марианской впадины моего подсознания начала выплывать злость. По мере разрастания она переходила в ярость, и скоро угрюмо-благородная сумеречная синева этого чувства вытеснила из мозга желтизну боли. Берсеркер проснулся; если бы в тот момент я мог соображать, я бы понял, что смогу сейчас встать, не смотря на боль в переломанных ребрах, пальцах рук и прочих ушибах, но, поскольку безумный берсеркер успел полностью завладеть сознанием, вытеснив меня самого куда-то на задворки, я начал вставать, даже не задумываясь над тем, что делаю. Понимал только две вещи: прямо передо мной есть враги и их, простите за нескромность, надо – ар-р-гх! – убивать!
И я бы, наверное сделал это – хотя бы с одним из нападавших, потому что в тот момент был дурнее курицы, которой отрубили голову, но которая после этого бежит куда-то по своим куриным делам, хотя вся информация об этих делах, как и остальные сведения о мире, остались вместе с головой валяться на колоде рядом с топором.
Но в тот момент, когда тело уже поднялось на четвереньки и даже оторвало одну руку от пола, собираясь принять более приемлемую позу, меня все-таки пнули в голову. И темно-синий взорвался красным, который быстро перешел в темно-бордовый, а затем и вовсе почернел.
Где-то, в каких-то туманных далях, я совсем было уже решил, что мертв – мертвее мамонтова племени. Решил – и смирился. Ну, судите сами, стоит ли покойнику бастовать против собственной смерти? Для него, для покойника то есть, от этого все равно ничего не изменится. Бастуй, не бастуй, наденут на тебя белую обувь и под звуки траурного марша снесут на кладбище. Если, конечно, будет, на что надевать эту самую обувь и наскребут, что в гроб складывать. Такие пироги.
Я принял данное соображение довольно спокойно. Даже на удивление. Беспокоиться начал потом, когда понял, что мыслить покойникам, в некотором роде, не полагается. А я мыслил. Следовательно, все еще существовал – как разумная единица. Формулировка была не совсем моя, но настолько обнадеживающая, что я без зазрения совести присвоил ее. Пусть и временно. Вот только незадача – ни одна долбанная мышца моего долбанного тела мне не подчинялась. Руки-ноги не шевелились, глаза не открывались. Складывалось впечатление, будто мозг вытащили из черепной коробки и засунули невесть куда, скажем, в трехлитровую банку, отсоединив от всех нервных окончаний и полностью отстранив от управления организмом, как радикалы-революционеры-путчисты отстраняют от власти зарвавшееся коррумпированное правительство – просто в силу того, что оно не может эффективно управлять. Мозг у меня зарвавшимся и коррумпированным не был, но от власти тоже был отрешен, как неэффективный.
И тут я начал верить в загробную жизнь. А фигли? Ни холода, ни голода, ни боли не чувствовал, свет и тьма для меня не существовали, я был невесом, как космический вакуум. Если это не форма существования в загробном мире, тогда объясните, что это такое, а то мне с этой задачей справиться не удалось.
Скорее всего, я был не в раю. Но и не в аду. По моим понятиям – потомка европейцев и христиан – и то, и другое значительно отличалось от состояния, в котором я пребывал.
Отсюда вывод: раз я еще ни там, ни там, значит, пока в законсервированном виде. Душа ожидает, когда Господь Бог и апостол Петр завершат свой консилиум и определят, куда меня приспособить. Скорее всего, конечно, в ад, но, говоря по совести, я бы даже на рай не согласился променять то состояние блаженного покоя, в котором имел счастье быть. Офигенное счастье – просто быть . И больше ничего. Ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни осязать, ни ощущать вкуса. Просто быть .
Правда, через какое-то время – какое именно, сказать затрудняюсь, потому что в законсервированном состоянии абсолютного покоя о времени как-то забывается – я был жутко разочарован. Все умозаключения полетели псу по хвост, когда безмятежное загробное существование нарушил усталый дребезжащий голос, каким ни апостол Петр, ни, тем более, Господь Бог говорить не могли. Больше всего это было похоже на голос полковника Ацидиса:
– Как, бриллиантовый мой, ты еще не пришел в сознание? Если да, но говорить не можешь, просто постарайся кивнуть или еще каким-то образом дай знать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу