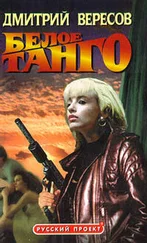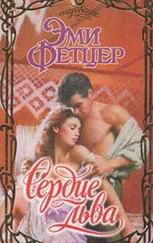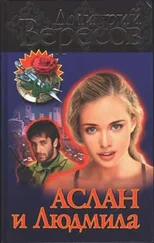Тетка Дарья обреталась на отшибе, по соседству со столетними елями. Тут же неподалеку стоял заброшенный одноногий саамский лабаз — полуразвалившимся черным от непогод скворечником. На драной крыше его сидело воронье, скучающе посматривало на приближающегося двуногого. А вот немецкая овчарка, что выскочила из-под крыльца, отреагировала бурно — с рычанием, бряцаньем цепью, оскаленной слюнявой пастью.
Хорст непроизвольно отшатнулся, а дверь тем временем открылась, и на пороге появился человек в подштанниках.
— Рекс, твою мать! Пиль! Тубо! Взять! Такую мать! Заметив Хорста, он вытянулся и браво отрапортовал, перекрывая собачий рык:
— Смирно! Равнение налева! Товарищ генерал, во вверенном мне бараке все укомплектовано! Смело мы в бой пойдем за власть Советов! Эх, дорогой ты наш товарищ Волобуев…
Это был отставной конвоец-старшина тетки-Дарьин сожитель-постоялец, пьяный до изумления, в подштанниках с завязками. Пошатываясь, он ел Хорста слезящимися глазами, придурочно улыбался и из последних сил держал за цепь беснующегося кобеля.
— Ктой-то тут? Что за ор? — На шум высунулась тетка Дарья, и голос ее из начальственно-командного сразу сделался ласковым. — Ой, гости дорогие, Епифан батькович! Вот уважил так уважил!
— Это же наш начальник политотдела, сам товарищ Волобуев! — попробовал было возмутиться конвоец, но Дарья вдаваться в подробности не стала, быстренько навела порядок. Загнала овчарку под крыльцо, сожителя с глаз долой, отсыпаться, и с криками: — Нюра, Нюра, кто пришел-то к нам! — принялась сноровисто накрывать на стол.
Семга, лососина, оленина, бобрятина, соленые грибы, икра, сквашенная особым образом, ядрено пахнущая гдухарятина. Духовитый, для своих, двойного гона самогон. Прозрачный как слеза, нежно отливающий янтарем. Да, хорошо жила тетка Дарья, не бедствовала: половицы покрыты краской, в окнах стекла хорошие, на рамах шпингалеты железные, колосники и печные дверки чугунные. Не изба — дворец.
— Здрасьте вам… — Из дальнего покоя вышла Анна, дочка тетки Дарьи, опустив глаза, устроилась на лавке, глянула на гостя равнодушно, словно те вороны на лабазе.
Хорст ее уже видел пару раз — так, ничего особенного, ни рыба ни мясо, нос картофелиной. Без изюминки девушка, без изюминки. На любителя.
— Прошу, Епифан батькович, к столу. — Мигом управившись, Дарья раскраснелась, утерла вспотевшее лицо и с улыбочкой усадила Хорста на почетное место. — Чем богаты, тем и рады. Как раз время ужинать.
Стол был на карельский манер, на длинных и широких полозьях, чтобы сподручнее было двигать по избе во время выпечки хлеба или мытья полов и стен. Сейчас же он стоял в красном углу, вот только икон за спиной Хорста что-то не наблюдалось. В пришествие Христа здесь не верили, так же как и в непорочное зачатие. А ели много, смачно и в охотку, даже Нюра повеселела и занялась с энтузиазмом жареным бобром. Не гнушалась она и самогончика, чокалась наравне со всеми. И не раз, и не два, и не три… А рюмок здесь не признавали. В общем, съедено и выпито было сильно, что развернулась душа и потянуло на разговор!
— Вот я, Епифан батькович, все давно хочу тебя спросить. — Дарья отставила глухаря и трепетно, с чувством стала наливать всем по новой. — Ты вот хоть и нашенский генерал, а нет ли у тебя случаем сродственника в Германии? Я ведь не так, не с пустого места спрашиваю. — Как-то затуманившись, она встала, сотрясая пол, прошествовала к комоду. — Шибко ты машешь на фрица одного, ох и ладный же бьи мужик, всем мужикам мужик. — Она с грохотом выдвинула ящик, порылась, пошелестела в бумагах и вытащила пожелтевшее фото. — Веселый был, все пел — ах, танненбаум, ах, танненбаум! А уж по женской-то части ловок был, дьявол, словно мысли читал!..
С фотографии на Хорста смотрел отец. Могучий, в шлеме нибелунгов, он словно изваяние покоился в седле, держа огромный, весом в пуд железный щит с изображением свастики. Сразу же Хорсту вспомнился рокот трибун, тонкое благоухание роз, исходящее от матери, свой детский, доходящий до самозабвения восторг. Он почувствовал холод руки Магды Геббельс, услышал ее негромкий, чуть насмешливый голос: «Да, Хорстхен, да, это твой отец». Господи, сколько же лет прошло с тех пор? Он больше никогда не видел своего отца одетым нибелунгом — в основном в черном однопогонном мундире, перетянутом портупеей, и фуражке с высокой тульей, эмблема — серебряный тотенкопф, мертвая голова. И часто в обществе огромного чернобородого человека с ме-фистофилевским взглядом — мать говорила, что это доктор Вольфрам Сивере, начальник засекреченного института, и что они вместе с папой ищут какие-то древние сокровища. И вот — напоминает о нем сквозь года. Выцветшее, пожелтевшее, с Смятым уголком и надписью по-немецки: «Дорогой Дарыошке, самой темпераментной женщине из всех, что я знал. А знал я немало. Зигфрид». Хорст с трудом проглотил липкий ком в горле.
Читать дальше