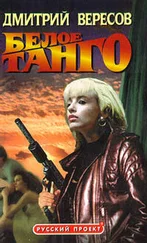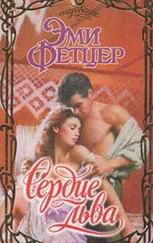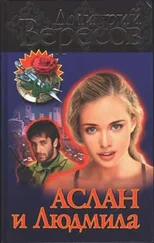«Товарищ, товарищ, болят мои раны, — напевая себе под нос, Захария Боршевич снял с плитки закипевший чайник, привычно повернул рукав белого халата и принялся с чувством намазывать булку маслом. — Болят мои раны в глыбоке…»
Вот так, сливочное на ситник, толстым слоем по всему срезу. Это вам не мешалду из кобмижира с сахаром на черняшку вонючую мазать… Теперь поверх масла — прослойку ливерной за восемнадцать рэ килограмм, в палец толщиной, и горчички, горчички, но не перебарщивая, не нарушая гармонии. Знать бы еще, из кого эту ливерную делают, небось из трефного, из раздвоеннокопытных… Впрочем, наорать — законы писаны для дураков. Сразу вспомнился отец, старый, пейсатый, в треснувших очках, монотонно бубнящий законы Моисея. Палец его, исколотый иглой, назидательно буравящий спертый воздух мастерской… Хорошо ему было говорить о заветах Господних — умер в блаженном неведении, не хлебнувши Советской власти. Не застал ни ГУЛАГа, ни индустриализации, ни «построенного в общих чертах» социализма. Не ходил по этапам, не получал похоронку на единственного сына…
«Эх, Лева, Лева, бедный мальчик мой. Погибнуть в девятнадцать, изжариться в танке… Живьем… Эх!» — Захария Боршевич перестал жевать, сгорбился, на бутерброд упала мутная старческая слеза. Какие тут заповеди, какой Моисей! Трижды прав старший брат Хайм — отсидел, плюнул на все и уехал в Израиль. Что социалистическая родина, что историческая — один хрен. А закон Божий тут ни при чем.
Есть от горьких мыслей расхотелось, чай начал отдавать веником, колбаса показалась пресной, безвкусной, цветом напоминающей дерьмо. Как и сама жизнь…
«Эх, вэй!» — Захария Боршевич поставил кружку, окурил, ломая спички, и тут в кабинет ворвалась Зоечка, коллега, тоже врач, без пяти минут неделя.
— Захар Борисович, женщина! Тяжелая! Черепно-мозговая, внутреннее кровоизлияние, сбита машиной. Покровы синюшные, зрачок не реагирует. Беременная, месяцев семь.
— Без сознания небось? И пульс на сонной отсутствует? — Захария Боршевич кивнул с мрачным видом, сунул папиросу в пепельницу. — Погибнут и она, и ребенок. Успокойтесь, коллега, сядьте, выпейте чайку. Наука здесь бессильна.
Знал, что говорил, — в сказки не верил, а за тридцать лет практики насмотрелся всякого.
— Не буду я с вами чаи распивать! Вы бы только видели, какая она красивая! — Зоечка вдруг приложилась кулачком о стол и громко разрыдалась. — Ну да, клиническая смерть, ну да, хрестоматийный случай, как в учебнике… А шли бы вы с вашей наукой к чертовой матери! Захар Борисович, миленький, ну не сидите так, ну сделайте что-нибудь, вы же маг, волшебник! Ну хоть ребеночка спасите!
Эх, молодость, молодость, дурная голова ногам покоя не дает. И не только своим, недурным, между прочим.
— Ладно, пойдемте уж, полюбуемся на вашу красотку. — Вздохнув, Захария Боршевич поднялся, мощно высморкался в платок, успокаивающе тро-иул Зоечку за плечо. — Ну-ну, ну-ну… Камфару, феин, адреналин, ничего не забыли?
Спросил так, для порядка, чтобы не молчать. В ответ — яростные кивки, обиженные всхлипывания, испепеляющие взгляды. Что поделаешь, молодость, молодость. Ну ничего, это быстро пройдет…
Спустились в приемный покой, открыли дверь бокса.
— Ну-с… — Захария Боршевич кинул взгляд на распростертое, отмеченное беременностью тело на гипсовую маску лица, на белокурые, удивитель но красивые волосы, нахмурился, скомандовал отрывисто, по-ефрейторски: — На стол! Попробуем спасти плод!
Дальнейшее происходило в молчании, только дробно позвякивал инструментарий да порывисто дышала Зоечка из-под марлевой маски. Потом Захария Боршевич вдруг замер, и в голосе его послышалось изумление:
— Двойня, едрена мать!
И тут же тишину операционной прорезали крики, громкие, торжествующие, в унисон. Кто это сказал, что чудес не бывает?
А праздничным тортом с яблоками и лимоном побаловала себя тетя Паша, тайно, в одиночку, под вишневую наливочку и несущиеся из репродуктора песни о победе. Да, да, играй наш баян и скажи всем врагам, что раскудрявый клен зеленый — лист резной, парнишка на тальяночке играет про любовь, а в пирожке никак не меньше фунта сливочного масла. Главное, чтобы не было войны…
Часть вторая. Преступление и наказание
Первое, что Хорст почувствовал, когда пришел в себя, были запахи резины и бензина. Он лежал, скорчившись, как недоносок в банке, в замкнутом, абсолютно темном пространстве, судя по всему, багажнике автомобиля. Было дискомфортно и ужасно холодно, однако не настолько, чтобы замерзнуть насмерть, — кто-то позаботился накрыть его плотной, отдающей керосином дерюгой.
Читать дальше