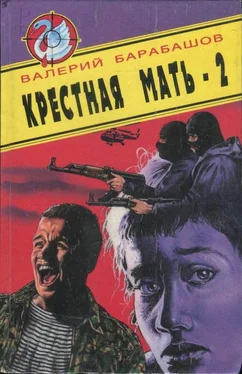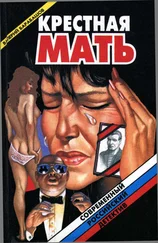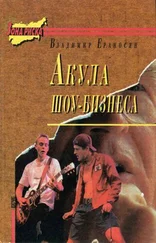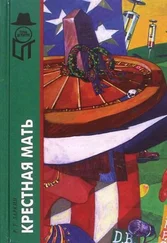Им обоим стало как-то неловко от затянувшейся паузы, они словно прочитали мысли друг друга, и это как бы отдалило их.
— Ну, а вы как? — спросил наконец Тягунов, взглядом показывая на ее живот.
— Хорошо. Мне кажется, что он уже толкается там… Боевой будет парень.
— Парень?
— Скорее всего. Я с врачом говорила… Обещаю тебе сына, Слава.
— Спасибо. Береги его, Таня.
— Конечно, о чем ты говоришь! — Она придвинулась к нему поближе, стала гладить ладонью его колючие щеки. — И что опять за настроения?.. Давай я тебя побрею, а? Зарос ты.
— Покойников бреют, — сказал он грубовато. — А я пока что живой.
Татьяна заметно испугалась.
— Ну, зачем ты так говоришь, Слава?.. И прости меня, я… я просто не подумала.
Разговор их прервала медсестра, вошедшая с готовым уже шприцем.
Татьяна помогла Тягунову повернуться на бок, потом вернула его в прежнее положение, укутала, обласкала.
— А теперь поедим, — сказала она бодро. — Я тут тебе кое-чего вкусненького принесла. Давай-ка, мой хороший, пожуй. Попробуешь сесть, а?.. Ну хотя бы вот так, я подушку повыше положу, тебе все равно удобнее будет.
Тягунов ел через силу, без охоты.
— Ты сегодня не оставайся, Танюш, — велел он потом, после обеда. — Поезжай домой, отдохни, выспись. Ты на себя стала непохожа.
— Да ничего, ерунда, высплюсь! — отмахнулась было она, но Тягунов мягко, но настойчиво возразил ей:
— Ты же не одна теперь, забыла? И о ребенке надо подумать.
— Как можно такое забыть?
— Ну вот. Иди, поспи. А побриться я и сам побреюсь. Подай мне бритву.
Она вынула из футляра и подала ему электробритву, и Вячеслав Егорович, кое-как приспособившись, навел на лице марафет. Бинтов на голове было уже меньше, щеки открыты, елозить по ним машинкой удавалось вполне. Правда, зеркало пришлось держать Татьяне. Тягунов глянул в него пару раз, сказал мрачно:
— Убери.
И добривался уже на ощупь, тщательно выискивая оставшиеся волоски.
На прощание он крепко поцеловал ее в губы, погладил живот и еще раз попросил:
— Береги…
…Глубокой ночью, когда больница спала чутким и тревожным сном, Тягунов попробовал подняться на подоконник. На левую, раненую и по-прежнему бесчувственную руку он почти не опирался, надежда на нее была плохая. Зато правая действовала исправно — на нее он и рассчитывал прежде всего: правая не подведет, правая сделает все, что он ей прикажет…
Койка его, как он и просил, стояла теперь у самого окна. Окно раскрыто, ночь душная, дышать в палате было тяжело, и медсестра Люба разрешила ему поблаженствовать, но предупредила, что потом сама закроет окно. Часов в одиннадцать вечера она и в самом деле закрыла створку на шпингалет, но только на нижний, и Тягунов осторожно, чтобы не грохнуть и не привлечь к себе внимания, вытащил его наверх.
Потом полежал, переводя дух, прислушался. Если Люба появится еще и станет его ругать, он скажет, что взмок, духота и решил приоткрыть окно — что в этом плохого? В чем она может его заподозрить? Ведь он ни словом не обмолвился о своем намерении, никому не дал даже намеком понять, что хочет сделать, Боже упаси! И Татьяна ушла спокойная, даже повеселевшая — он поел, побрился и даже поцеловал ее на дорожку. Пусть спит спокойно.
Город за окном вдали полыхал яркими огнями. Огней было много, над Придонском висело электрическое зарево, и небо над ним посерело, темнота как бы разжижилась, размылась, небеса там не казались такими черными, как здесь, над больницей.
Это хорошо, что небо черное, что на дворе ночь. Так и должно быть. Из жизни надо уходить ночью. Из темноты, из небытия приходит человек в этот мир, в темноту и должен уходить. И так легче.
А больно будет всего одно мгновение. Это ничего. Это можно вытерпеть. Это будет его последняя, мимолетная боль в жестокой, сломавшей его жизни. Не у всех она удается, ничего с этим не поделаешь — судьба! И зачем, в таком случае, мучить себя и других? Татьяна любила его, он это чувствовал, видел, но он не вправе быть ей обузой…
У всего на земле есть начало и конец.
Его конец пришел.
Он не имеет права жить и по другой причине — ведь он пошел против Совести, против Долга. Он запутался в своих мыслях, он заблудился в этих проклятых лабиринтах политических споров, которые вели день и ночь рвущиеся к власти люди, с разных сторон зовущие его, Тягунова, на свои баррикады, убеждающие его в своей правоте, в искренности намерений, в благородстве помыслов…
Будьте вы прокляты!
Тягунов, судорожно цепляясь пальцами здоровой руки за койку, преодолевая боль в культях, навалился животом на подоконник, глянул вниз; асфальт внизу не освещался, его не было видно, и потому казалось, что там, далеко-далеко, под окнами больницы — бездна.
Читать дальше