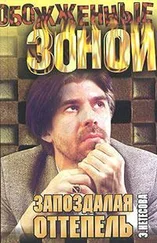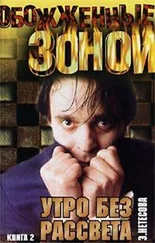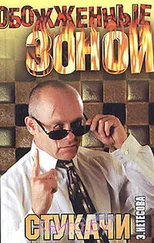— Ну и говно тот Швабра, — отвернулся Угорь.
— Сам говно! Ты с ним дышал? Он всех фартовых Севера держал. А ты что такое? Захлопнись, гнида сушеная! Не ботай много про тех, кого не знал! Швабра был махровый. А ты — мелкий щипач! Тебе ль хавальник разевать против него?
— Я про Швабру тоже от кентов слыхал. Он «Черную кошку» держал. Пять «малин». Швабра, как фартовые ботали, имел в день навару больше, чем в любом банке было. Его весь МУР ссал. Он и днем мусоров крошил за милую душу. К нему в «малины» за большой навар брали. И не всякого, — сказал Цыбуля.
— Уж не знаю, как он «малины» держал, но отходил хреново. Кашлял так, что живой был синим. И мне ботал: «Мол, хиляй от законников, покуда цел. Фортуна молодых да сильных держит. Им — навар и удача. А расплата за них по счету — в старости. Ничто не будет забыто и упущено. Ни одной копейкой не обсчитается. Как ни мухлюй! За все свое сорвет. Линяй, покуда не одряхлел да не заплесневел. В молодости трудно в грех впадать, еще больнее встари за все платить. За каждый удачливый день, за всякий кайф. За свои и чужие ошибки. За жмуров — своих и легавых, за фраеров. Им, верно, тоже больно помирать. А нам труднее, потому как земля принимать не хочет всякое говно. Вот и мучаемся — больше любой суки. Потому, что жизни отнимали, у Бога не спросясь, закон его преступив. Бойся того, пасись фартовых. Они — погибель…»
Тимка перевел дух. А Скоморох, вылупившись бараном, спросил:
— Зачем же вернулся к фарту?
— Не поверил я тогда Швабре. Да и прикипел к «закону — тайга». Дышать без него не мог. Но Швабра часто вспоминался. Не слова его перед смертью. Это часто слышал. А то, что после увидел, когда дых из Швабры выскочил. Он перед тем вдруг перестал сетовать. Улыбался: мол, отлегло от задницы, может, поживу. И вспомнил, что где-то в Подмосковье растет у него дочь. Какую по бухой заделал бабенке. Лет двадцать не видел. Гроша не послал. Ни разу не помог. А теперь, перед смертью, привиделась. И пожалела дурного родителя. А может, это не дочь, а смерть над ним сжалилась. Забрала его. Швабра вдруг вздохнул. Зенки просветлели. Задрожал всей душой. И все… Я глаза ему закрыл. Он остывать начал. Морда вытянулась, пожелтела. Я наклонился к нему, чтоб проститься, чую, на губах — мокро. Он в жмурах плакал. Мне жутко стало. Когда его из шизо вынесли, охрана приметила слезы. Подумали — живой. Понесли в больницу. Врач глянул и руками замахал: «Куда мертвеца прете? Здесь живые лежат, лечатся…» Ему охрана на мокроту тычет. Мол, мертвые не плачут. Доктор глянул и говорит: «Редкий случай. Но бывает. Особо у тех, кто сильно болел и нервы были на пределе. Они до конца держатся. И только смерти суждено показать свету истинное лицо фартовых».
— Да, кенты, я о таком не слыхал, — поежился Цыбуля.
— А может, он тебя иль всех кентов разом оплакал? Ведь ботают, что мертвые не уходят. Живут среди нас, — вставил Скоморох.
— Конечно, не линяют. Мы за всякого жмура ходки тянем. И поминаем по-своему всякий день. Каждый жмур в памяти крепче кентов живет. Потому как за него, падлу, годы по зонам паримся, — вставил Цыбуля.
— Я никого из размазанных не помню. На них времени нет. Да и не баба. У фартового нервы на канаты должны быть похожи. Иначе на хрен с фартом связываться? — отвернулся Угорь.
— Всяк по-своему клеится и линяет из «малин». Но от того фартовых меЛлие не становится, — ответил Цыбуля.
Законники согласились с ним. Но каждый обдумывал услышанное.
А на следующий день, едва закончилась пурга и условники откопали зимовье, на заимку как снег на голову свалились двое милиционеров.
Хмуро поздоровались, вошли в зимовье. И предложили Скомороху ехать с ними.
— Зачем? — удивился охотник.
И милиционеры, не выдержав, рассмеялись громко:
— Срок закончен. Получите документы. А уж потом ваше дело, хоть навсегда тут оставайтесь. Нам мороки меньше.
На радостях приехавших накормили, обогрели. И, собрав кента в дорогу, наскоро простились с ним.
— Вернешься к нам? — спросил его Тимка.
— Нет. На материк рвану. Коль дождалась меня моя сезонница, осяду, приклеюсь к ней. А коль нет — махну к своим…
В зимовье стало пустовато. Особо тяжело было первую неделю. Покуда не отвыкли, все ставили на стол четыре миски, четыре кружки. И еду — на всех… Лишь сев к столу, вспоминали.
— Пусть сытно будет тебе, кент! Да не обойдет тебя фортуна ни хлебом, ни теплом, — желали условники ушедшему.
А Скоморох, едва получив документы и расчет, уже на следующий день уехал из Поронайска, даже не оглянувшись в сторону Трудового.
Читать дальше