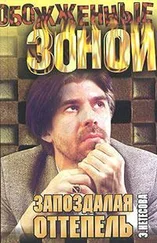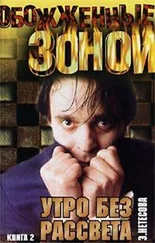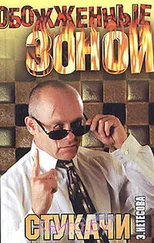Ты уже мужик. Ведомо мне, что никто из вас нужды не знает. От моей подмоги завсегда отрекались. Видать, и впрямь крепко на ногах держитесь. Ну, дай вам Бог. А потому я про свое последнее в жизни отписать хочу. Все, что нажил я и скопил, трудом тяжким, завещаю человеку, какой в зимовье делил со мной горькую долю. Больного выхаживал, куском не обходил, за родного отца почитал. Нехаи из условников. Для меня нет в свете равного Тимофею. Ежли сама тайга его признала, значит, Бог ко мне этого человека привел. Спасибо Господу, что в лихую минуту тот Тимофей не с выгоды своей со мной страдал. А душой очистился. С ним рядом и я потеплел, прощать научился. Всех. Пусть моя теплина памятью про меня останется и живет в ем за нас обоих. Он мне навроде сына. Последнего. Не от плоти. Богом, тайгой подаренного. У меня и по нем в загробье сердце болеть станет. Только б не посклизнулся, не сгубила б его тайга, сберегла бы под сердцем кровину человеческую. Одинокую средь людей — сиротину горькую. Он только начал жить. Глянь в его глаза. В них — мой конец и прощание с вами.
Пусть вам не будет одиноко средь люду и в родне. Пусть души встари не сделаются сугробами зимними. А и меня не поминайте лихом. Я любил вас. Всех. Шибче себя. То не от стари, от сердца сознаюсь. Только по вас страдать стану. Тому лишь Бог свидетель. Да сохранит он вас и помилует…»
Тимка докурил папиросу. Глянул на спящих кентов.
«Ни в какую «малину» не похиляю. Идите все к лешему! Мне дед зимовье завещал. Целую тайгу. Не хочу фартовать. И вам не советую. Жизнь, она как дерево. Покуда все верно, растет, цветет. А рубанул топором ошибки, хиреть начнет. Не всякую болячку одюжит. Не все пересилит», — подумал бригадир и, успокоившись, заснул под боком Цыбули.
Шли дни, недели, месяцы. Ревела над тайгою заполошная сумасбродка-пурга. Она пеленала зимовье в толстенный сугроб. Заносила снегом петли и капканы. Надежней лома подпирала дверь зимовья, затыкала печную трубу снегом. И промысловики, проснувшись, порою не могли понять, ночь в тайге или утро.
Словно из склепа, выбирались из зимовья и благодарили судьбу, что не замерзли, не задохнулись в избе.
В такие дни выходить в тайгу никто не решался. Да и какой смысл искать зверя, загнанного пургой под глубокий снег? И тогда подолгу текли в избе разговоры о прошлом и будущем. О настоящем дне думать не хотелось.
— У Филина баба на сносях. К концу весны родит. Повезло кенту. Ему фортуна улыбнется. Он самый большой навар снимет. Отцом заделается. Пацан через пару зим оседлает его, — улыбнулся Тимка.
— Припоздал сопливым обзавестись. Родить родит, а растить кто станет? Баба к тому ж молодая. Ну, потешится еще пяток лет, а дальше что? — спросил Угорь, прищурясь, и ответил сам себе: — Я бы на его месте не рисковал.
— Потому ты на своей жопе сидишь. Здесь, в зимовье. А он — в селе. Человеком -дышит. Сам себя и бабу держит. Без фарта обходится. И ништяк… В дела не тянет, — оборвал бригадир.
— Фартовых рано иль поздно судьба наказывает за откол. Да только поздно понимают. С «малинами», как с погостом, коль влип, не развяжешься, — не сдавался Угорь.
— Иди к хренам! Сколько законников завязали с «малинами» только на моей памяти? Счету нет. Всех мокрить — стопорил не хватит. Сплошные жмуры валялись бы по северам. Разуй буркалы — все дышат. И забили на фарт. И ты — не транди! — разозлился Тимка.
— А ты кентов тряхни: куда лыжи навострят после мори- ловки?
— Чего дергаться? Я не хочу наперед мозги сушить. Вон Кот. С ксивами, вольный, а не пофартило. Выйду, тогда надумаю, — отмахнулся Скоморох.
— А мне не больше других надо. И фартовые жмурятся. За всяким сввя погибель ходит. Хоть за законником иль фраером. Так надоело по чужим хазам затыриваться и дышать шепотом, одной задницей. Чтоб не накрыли. В дело сходишь, год кайфуешь. А в ходке десять зим паришься. Сколько мне фортуна дала? Не больше; чем фраерам отведено. Но они — дышат, не ссут легавых. А мы? Блефуем себе. Хорохоримся. А потом на нарах дохнем, как последние падлы, — отмахнулся Цыбуля.
— Верно трехаешь. В ходках мы все прозреваем. Особо когда приходит время коньки отбросить. На моей памяти такого хоть отбавляй. Вот так и Швабра окочурился. В Сусумане. Лихой был фартовый. «Малины» держал в самой Москве. А накрыли. И влепили червонец. Самому уж под сраку было. Восемь ходок вынес. Трижды линял. А последняя — самая хреновая. В шизо его законопатила охрана. За трамбовку. На полго- да. Он там захворал. Кашлял кровью. Другого к врачам кинули бы, этого доконать вздумали. И по хрену его болячки. Их попросту не видели. А он таял. Я там тоже приморенный канал. Так Швабра, когда с глазу на глаз с ним остались, ботал мне — завязать с «малинами». Мол, ни навар, ни кенты у смерти не отнимут. Она — всех западло имеет. Сама за все сорвет свой куш, хоть с бугра, хоть с суки. А подыхать… какая разница в каком звании? Одинаково тяжко. Жмуру едино, помнят его кенты иль нет. Сдыхать завсегда больно. И ни одна «малина» не облегчит, не выкупит у смерти. Ее обшаком не умаслишь, на отсрочку не сфалуешь. А главное, обидно, что сдохнуть довелось, как крысе. Небось последнему сявке давали шанс на шконке окочуриться. Потому как на его душе грехов меньше. А нам — по-зверьи. Паскудно. Вот он и трехал: мол, завязывай. Отколись от фарта. Душу высушит. Мол, дышим лихо, весело, пьем и пляшем, а подыхаем — плачем…
Читать дальше