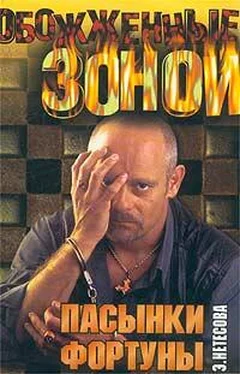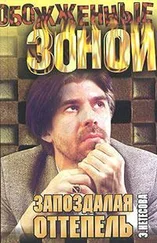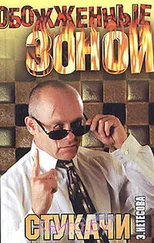Стопорило вскоре вернулся в барак с бутылкой. Дыру в стене залепил снегом и все зэки поняли, кто мешал им отдыхать и причинил немало жутких минут. Бугор барака вмиг зыркнул на Кузьму недобрым взглядом. И смерив его с ног до головы, выдавил трудно:
— Кончать пора чувырлу! Слышь, кенты, козлятиной воняет! А ну! Займитесь им!
В этот раз шпане не повезло. Едва свора облепила Огрызка, охрана втолкнула в барак десяток новых зэков.
Слово за слово перекинулись. Пока знакомились, делились новостями, Огрызок сумел незаметно ускользнуть на чердак, чутко прислушиваясь к каждому слову, доносившемуся снизу.
Там о нем словно забыли. Но Кузьма знал, эта забывчивость — короткая. И ему надо держать ухо востро.
Огрызок, как и другие зэки зоны, имел несколько ножей, раскованных из гвоздей. Их спрятал на чердаке в разных местах и лишь два из них всегда держал при себе, не расставаясь с ними ни днем, ни ночью.
Фартовые научили Кузьму еще в детстве хорошо владеть «пером», но при этом всегда говорили, что его надо пускать в ход лишь в самом крайнем случае.
Когда над собственной душой повисла смерть по чьей-то прихоти. Запрещали законнику пускать нож в ход на своего. Карали всякого, кто нарушал запрет и не сумел отстоять себя кулаком.
Именно это сдерживало Огрызка от конечной расправы за все свои муки. Но чувствовал, терпению приходит конец. И когда руки уже тянулись к ножу, Кузьма вспоминал, как был он изгнан из «малины», и руки отказывались подчиниться помутившемуся разуму.
Конечно, он давно мог перейти в другой барак. Но не к фартовым. Туда он рожей не вышел, не дорос до той чести. А потому из шпановской своры мог перейти лишь к «иванам». Но этого он сам не хотел. Ведь у работяг надо было каждый день ходить на пахоту и вкалывать, давая, как все, по две-три нормы. А Кузьма и об одной представленья не имел. Считая для себя труд — западло. Знал, что по выходе на волю приткнется к какой-нибудь «малине». И со временем примут его фартовые «в закон». А если он выйдет на пахоту с работягами, фартовые никогда не признают Огрызка. Ибо воровской закон запрещает фартовым вкалывать, как фрайерам.
Кузьма хотел стать честным вором, а потому на пахоту не пошел. Жил как вся шпана барака. И хотя всем нутром ненавидел блатную кодлу, терпел, зная, что как ни длинны ходки, они все кончаются когда-то. Вот и в этот раз он думал отсидеться на чердаке, пока перхоть остынет, забудет о бутылке, а он тем временем учинит новую пакость.
Его за то и ненавидели, что не давал этот Огрызок никому дышать спокойно! И хотя его уже не раз проигрывали в карты, собирались замокрить, он чудом оставался жить и нередко Кузьму спасали случайности.
Он всегда жил, балансируя на лезвии бритвы. Одно неосторожное движение, и шпана могла бы разнести Огрызка в клочья. Но что-то мешало, сдерживало, оттягивало расправу.
Кузьма сбился со счету, сколько раз выкидывали его из барака. Не только за пакости, устроенные шпане.
Никто из блатных не мог смириться с мужиком, который, едва коснувшись головой тюфяка, вонял на весь барак. И когда ему грозили заткнуть задницу, сделать обиженником, Кузьма отвечал, ничуть не содрогнувшись:
— Кто осмелится, тот потом до погоста, яйцы не отмоет. Болезнь у меня такая с детства — шкура короткая. Едва глаза закрыл — жопа открылась. И наоборот… Я тому — не пахан. Что хаваю, тем греюсь. Не по кайфу — не нюхайте! Нечего мне в ваш общаг вложить, кроме тепла. Кому не лафово, пусть хиляет с хазы!
За эту вызывающую наглость били Огрызка почти каждый день. Но от хорячьей болезни не вылечили ни пинки, ни зуботычины, ни оплеухи.
— Это как ты в дело ходил со свистком в жопе? Тебя мусора из лягашки слышали. Кой козел пердуна в «малину» взял? — удивлялся бугор барака и поражался, слушая, как эта болезнь много раз выручала из беды не только его самого, а и «малину».
То в самом начале было. Спер я у барыги на толкучке мошну. Тугую, здоровенную. И только сунул ее за пазуху, тот чувырла накрыл меня за самый загривок! Поднял над головой, хотел с меня душу выбить. Оно и случилось, только с другого конца! — вспоминал Кузьма. В бараке стены дрогнули от хохота.
— Барыга чуть отдышался. А когда глаза открыл, я уже слинял. Его же, гада, до вечера блевотина прижимала! — хвалился Кузьма и рассказал шпане, как сунули его фартовые в форточку мехового склада.
— Все я оттуда вниз спустил. Но на радостях, что навар сумел снять, пузо расходилось. Я и отвел душу… Что там — нафталин, каким все стены склада провоняли? Он — духи! Утром, когда лягавые с собакой приехали на вызов, у ихней овчарки не то что нюх, мозги отключились. И три других след мой не взяли, не решились нагонять, чтоб вконец самим не накрыться.
Читать дальше