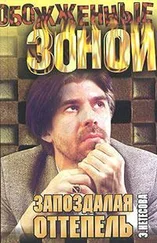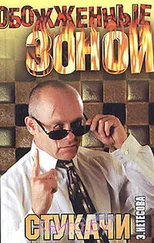— Третьего пацана ей сделал? — рассмеялась Тонька.
— Цыть, бесстыдная! Тебе, как голодной куме, все хер на уме. А ежли без того обошлось? — глянул строго.
— Знать та Наталья была убогой иль вовсе старой, что на нее не потянуло.
— Ты, краше было б, глянула на себя, самосвал тупорылый, страмотища подмостовая, бухая кикимора! — возмутился Петрович. Тонька мигом обиделась, поджала губы, хотела уйти спать, но вовремя вспомнила, что потом не допросится деда рассказать о прошлом. Задавив в себе обиду, пробурчала, что не верит старику и она уже похудела на пятнадцать килограммов, работая на кухне, и теперь стала замечать, что мужики на нее оглядываются на улице.
— Ну да, со страху! — согласился старик и добавил:
— Поди вслед крестятся! Отродясь эдакой страмотищи не видели. Сущая хрюшка в сарафане! От тебя даже зэк, отбывший на зоне червонец, со страху сбегит. Не поверит, што ты баба!
— Да будет меня в помоях мыть! Даже все наши бабы говорят, что я похорошела и говорить стала совсем по-городскому, грамотно, ни то что ты. А все они помогли и подсказали, поправляли и добились своего. Теперь мной гордятся. А заведующая детсадом обещается послать меня на стажировку, а после нее шеф- поваром поставить. Это значит, старший над всеми на кухне. И получка будет вдвое больше, — предугадала вопрос деда и опередила его.
— А как с хозяйством, с домом? Кто станет тут управляться? Развела полный двор скотины, теперь в кусты сигануть вздумала?
— Справлюсь, успею! То не твоя морока! — успокоила старика и спросила:
— Долго ж ты у Натальи квартировал в той Сосновке?
— Не у ней в избе, а в пристройке меня определили. Я ее сам довел до ума. Раней там летняя кухня была. Ну и сотворил из ней жилье всем на зависть и удивленье. Настоящий терем с резными ставнями, с петухом на трубе. Тараска как увидел, аж задохнулся, самому такое захотелось поиметь и зазвенел:
— Ишь, какой вострый! Контра недобитая! Даже у нас пригрелся, гад ползучий! Я вон кто есть, а в простой избе живу! Ентот себе и тут хорому сообразил! А ну, кыш мою хату выправлять! Сотвори и там красу почище этой. Не то гляди ж мне, в болото отселю!
— Я тож в долгу не остался. Не уважал, когда за горло брали и ответствовал, что опрежь всех обязан я наладить дом Натальи, где трое сирот живут. Я помнил, что приютила семья, делясь со мной скудным куском, и за то я их первостепенно отблагодарствовать должон. А уж остатних опосля, коли доживу, порадую. Но Тараска ождать не хотел и забазарил, поносить начал меня по всякому и пригрозил, коль нынче не возьмусь за ево избу, света белого не увижу и жизни не порадуюсь. Услыхал те угрозы, и взыграло ретивое. Уперси я и все на том. Ответствовал тому кабану, што коль грозит, не стану ево хату чинить, нехай живет там, как в свинячьем катухе! И взялся чинить дом Натальи. Так мне ее мальцы подсобляли с утра до ночи. А и сама хозяйка не сидела сложа руки, потом и соседи подошли, подмогать взялись. Так-то за месяц сообча из завалюхи дом сообразили. А Тараска все бесился. Даже милицию на меня натравил за самовольство. Брехал, что я делаю чево хочу, сам себе работу выбираю, власть не слухаюсь. И стребовал, чтоб за это увезли меня в тюрьму, потому как его, вождя деревни, последними словами поношу.
— И тебя увезли? — затаила дыханье Тонька.
— Мужуки защитили, окружили милицию и сказали, что я ничего худого не утворил, никого не забидел, а и мастеровой в своем деле. Таких беречь, но не забижать надобно. Показали дом Натальи, мою пристройку. Обсказали, мол Тараска размечтался для себя в хоромах жить, а наш Петрович не уломал его, не пошел к ему. Вот и посудите, кому наперед избу подправить требовалося, сиротам иль нашему кабану Тараске? Чево он лютует и выскакивает с себя? Не троньте человека, не забирайте от нас, он тут всей деревне нужон. Ну милиция всех слухала. А потом велела мне в сельсовет притить. Я и ввалился. Не ведал, што Тараска на меня набрехал. Указал на памятник Ленину, а ен, ну как во зло, весь снизу кобелями обоссаный, а на ту пору лютая стужа стояла. Ссаки рыжими сосульками все подножье обвешали, аж смотреть гадко, а Тараска на меня указал и звенит, что это моя работа, подбиваю деревенщину на смуту и глумлюсь над пождем. Милиция как услыхала, на меня вызверилась, и без вопросов в машину свою впихнули сапогами, и район повезли продолжать беседу. А уж говорили со мной полным составом. Врубали, не скупясь, оторвались от души все кому ни лень, — задрожали руки Петровича, будто в ознобе. Глаза посерели.
Читать дальше