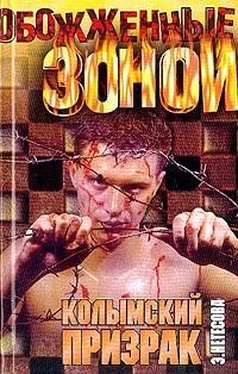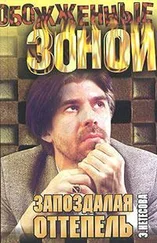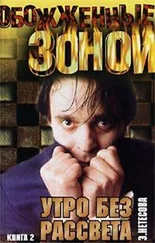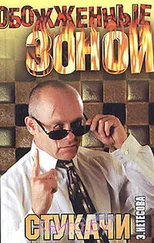— К фартовым хотели нагрянуть? Так они привыкают. Кто как… Иные до ломоты в плечах. Другие канючат, задрав пятки, в марь повалились. Да там долго не полежишь. Едва мокрота к заднице доберется, встанут. Сейчас их не стоит проверять. Мучаются. Свыкаются. Но через неделю обвыкнутся. Будут как все. Вот тогда и нормы начнут вытягивать и выматываться меньше. А пока не стоит, — тихо, словно размышляя вслух, говорил Аслан.
— Тоже верно, — не стал спорить Борис Павлович.
— А зачем вы один ездите по трассе? Стоит ли рисковать? — спросил Аслан.
Упрямцев удивленно посмотрел на водителя.
— Кого мне бояться? Я воробей стреляный, пуганый. Всякое видывал. Отпугался всего. Теперь уж стар бояться. Да и некого. Так думаю.
Аслан пожал плечами. И ответил неопределенно:
— Тут всякое может случиться. С трассой не пошутишь. Она каждого сама объезжает. Для нее нет зэков и начальников. Все одинаковы, как сугробы на погосте.
— Спасибо, Аслан, на добром слове. Век буду помнить, что ты первый здесь обо мне подумал. Хоть и кто мы друг другу? Да и возраст не совпадает.
— Люди, вот кто. Я хлеб ел в доме твоем. По нашему обычаю — это все равно что другом стать. Нет, я не говорю, что меня нужно выделять. Я не наивный. И все ж не побрезговали вы мной. А значит, и мне вы — не чужой, не посторонний… Кто знает, как жизнь сложится? Особо на свободе… Сроки кончаются рано или поздно. Но с ними мы не все рвем и забываем…
— А знаешь, как я в эту систему нашу работать пришел? Тоже, казалось, случай такой произошел. А всю жизнь он мне перевернул. После войны вернулся домой. В Орел. Из восьми душ — только трое в живых остались в семье. Мать-старушка, да брат-калека. Ну и я. С хлебом — сам знаешь, как тяжело было. Маманя с ночи очередь занимала, чтоб к утру карточки отоварить. Меня не пускала. Все хотела сама успеть. Всюду, — вздохнул Упрямцев и продолжил: — А тут — праздник. Мать заторопилась в очередь. И карточки в карман положила. В жакет. Когда прикорнула, чует — кто-то в карман лезет, за карточками. Она — хвать за эту руку. Закричать хотела. А ей по горлу ножом… Навек накормили. У нее, у мертвой, на глазах долго слезы не просыхали.
— А душегубов поймали?
— Практически сразу. Их двое было. Пока следствие шло, меня и уговорили в эту систему перейти работать. Я и не раздумывал особо. За мать было обидно. Хотелось, чтобы меньше бандюг ходило по земле. Но… Их не убавляется, — с грустью признал Борис Павлович.
— Не убавляется? Это почему?
— Да вон новую партию завтра принимать надо. Три сотни уголовников. А выйдут на свободу в этом месяце лишь двадцать. Соотношение и подтверждает мои выводы.
— По головам, как баранов, считаете? А все ли они за дело осуждены? Всяк ли преступник? В нашем бараке половина мужиков не знают, за что сидят. Горько это. Но еще хуже, когда их другие преступниками называют.
— А где вы видели, Аслан, чтобы осужденный сказал, что он виновен?
— Да хотя бы я! Виноват. Не спорю. Но ведь первая судимость! А разве стоило вот так, сплеча, сразу на Колыму? А поначалу вообще в расход пустить хотели. Ну, ладно я. А возьмите Килу, Илью Ивановича, Чинаря, Полуторабатька иль Полушпалка? Совсем ни за что! А сроки какие? Да и других — тоже… За мешок муки — червонец. Это разве по-человечьи? Вор банк обокрал — получил столько же. Нет, я против такой уравниловки! Мужик мешок муки спер, чтоб детей кормить, а фартовые — на воровстве всю жизнь. Где разовый случай, на какой нужда толкнула, а где система? Есть разница? А вот отбывают одинаковый срок, в одной зоне и в одном бараке. И даже по одной статье! Такого не должно быть, чтобы убийца получал восемь лет, а за два мешка комбикорма — десять… Так что не все тут гладко в законе. А разве можно судить за мысли? Вон те же идейные…
— Погоди, Аслан. Уже дела идейных пересматриваются. Шестерых к реабилитации готовим. Полной. С восстановлением во всех правах.
— А отбытый срок, годы на Колыме куда денешь? Такое не восстанавливается. Или спишется? Я не о себе. О тех, кого уже списали. Здесь, в зоне. Им уже не нужна реабилитация. Припозднилась она. Пока дойдет до Колымы, сколько еще умрет невинных? А она идет слишком долго. Видать, ноги у нее, как и у нас, подморожены. На таких не разгонишься. Разве только на обочину, где виновные и невиновные рядком лежат…
Борис Павлович молчал. Лишь морщины лоб прорезали.
О чем-то своем думал человек и, казалось, не слушал Аслана. Но вдруг заговорил, будто проснувшись:
— Ты говоришь, мертвым не нужна реабилитация, не нужна защита и очищенное имя? Ты очень ошибаешься, Аслан. Она — как правда, как жизнь необходима. Потому что и у погибших, умерших на Колыме — живы семьи, дети. Им с запятнанным именем жить очень сложно, порой невмоготу. Ведь ни в институт, ни продвижения по службе не имеют. Лишены всех прав. Нет виновного отца. Из-за приговора отцу и сегодня страдают дети. Вот почему нужна защита мертвым, чтоб живые, не боясь, называли свое имя. Хоть по возможности случившееся надо исправлять. Пока так. Конечно, полумера. И все ж спроси тех, живых — нужна ли правда им?
Читать дальше