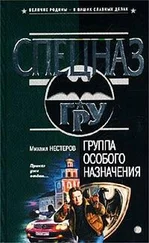— Здравствуй, Олег! — первым поздоровался генерал, настроив салонное зеркальце так, чтобы видеть в нем отражение пассажира.
— Здравствуйте, Валерий Михайлович.
— Рассказывай.
Лобов выложил генералу все, что видел, и, как мог, передал свои ощущения, как он почти вслепую шел по пути наития.
Паршин выслушал его внимательно, не отрывая взгляда от его отображения в панорамном зеркале.
Олегу не хватило полутора часов для того, чтобы набросать в голове план предстоящих действий, и его это обстоятельство нимало не удивляло. Однако самое разумное, в его представлении, — это выманить Котика из гостиницы или дождаться, когда он выйдет сам. То есть он предлагал тактику ожидания, а она могла дать результат утром следующего дня. Но согласится ли ждать Паршин, известный своим натиском генерал? Зная его вспыльчивую, деятельную натуру, Лобов мог с уверенностью сказать: нет. И он дождался от Паршина целого ряда коротких вопросов. Вопросы носили точечный характер, как уколы рапириста, и все они достигли цели — хотя бы потому, что Олег обстоятельно ответил на каждый из них. Его ответы слились в детализированный рапорт.
— В номере делового разговора не получится.
— Что? — спросил Олег, занятый своими мыслями и пропустивший, как ему показалось, начало фразы.
— Я говорю, Котика буйным не назовешь, но в номере спокойного разговора не получится.
— А чем плоха подземная парковка? — спросил Лобов, заинтересованный в том, чтобы «серьезный разговор» состоялся вне объекта, который он охранял.
— Там парковщик, — ответил Паршин. — Там эти, как их, — он пощелкал пальцами, — автолюбители. Там живет эхо и еще черт знает кто. Пойдем взглянем на твоего альбиноса. Хотя погоди. Значит, Котик остановился в номере…
— Тридцать четыре семнадцать, — на военный манер ответил Лобов, как если бы докладывал по рации, какую высоту он занял.
— Черт меня побери…
Паршин не мог назвать себя гением — вот сейчас. В нем поселился гений в тот час, когда его посетила эта странная идея с тюремными номерами и связанной с ней традицией. Нет, он не мог назвать это какой-то связью с Сашей Котиком, разве что единственным шансом добраться до него, надеясь на собственное долголетие и примерное поведение русского заключенного. Он еще тогда сказал себе: «Не верю, что Котик состарится и умрет в этом филиппинском остроге». Другой на его месте тоже не прошел бы мимо очевидного, но не принял бы мер.
Сейчас Паршин даже не вспомнил о том, что год тому назад больше думал о наказании Лобова, нежели о мести Котику.
Эшли Смит прилетела в Москву вчера вечером. Ее кабинет в посольстве в Большом Девятинском переулке был выдержан в классическом стиле: привычная глазу деревянная мебель. Она закрылась в кабинете и подключила к телевизору компактную видеокамеру, переданную ей оперативником из федерального агентства Министерства обороны США, возглавляемого контр-адмиралом Майклом Стюартом. Оперативник, выполняя ее задание, снимал зал прилета во время прибытия рейса Гонконг — Москва. На экране мелькали лица пассажиров, встречающих. Эшли смотрела на них, как будто пробегала глазами текст, выискивая нужное слово. Она четко представляла облик человека, который привлечет ее внимание. Они отказались от очков в качестве маскировки, дабы не скрывать под ними то, что должно было бросаться в глаза: белесые брови и ресницы. Эшли сама приложила руку к новому имиджу Котика и начала работу с набросков на чистом листе бумаги. Именно чистый лист подсказал ей направление: безликость. А ей уже соответствовали приемы: вытравливание, обесцвечивание старого. Вот интересная задача! И чем больше она работала с образом Котика, тем больше проникалась к нему симпатиями и теплыми чувствами; и ее же слова «Котик — мой проект» для нее приобрели иной смысл.
Ей казалось, она переделывала его под себя — не чисто внешне, конечно, а изнутри. Ей с ним было интересно. Он был чуточку замкнутым. Разумеется — он же находился не на российской военной базе, и на нем была униформа другого производителя. Также не мог не сказаться на его характере год, что он провел в филиппинской тюрьме. Он грезил свободой, и эти грезы поддерживали в нем боевой дух, а в остальное время — это муштра, суровые будни. От таких нагрузок надрывается сердце, и каким бы ни был труд — под музыку или нет, он был принудительным, каторжным, что было изначально заложено в названии этого коррекционного учреждения: каторжная тюрьма. Что может быть хуже?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу