— Беременна?.. — переспросил Акинфиев и подумал, что ведь жена Авдышева и невеста Конокрадова тоже были беременны. — Вот это да! Вот это поворот!.. А сейчас у нас тоже есть сатанинские секты?
— Наверно, есть. Если к концу семидесятых в одной только Москве их насчитывалось порядка десяти…
— Бред собачий! — помотал головой Шершавин. — Бред! Двадцатый век на дворе.
Никто не обратил на него внимания. Акинфиев вцепился в старушку мертвой хваткой и стал расспрашивать ее о сатанистах, предварительно рассказав о загадочных, по его мнению, смертях молодых людей и о фотографиях красавицы Тейт с многозначительной надписью.
— Ну, культ Сатаны здесь вовсе необязателен, — задумалась Гурвич. — Это могут быть «идейные бандиты» со своим моральным, то есть аморальным, кодексом. Примерно таким: следование прирожденным инстинктам, хищничество, неподставление другой щеки, проклятие кротких, культ силы…
— Фашизм какой-то, — предположил Довгаль.
— Похоже. Библия наоборот. Но может быть и месть. Поверь, Саша, ничего сверхъестественного или исключительного здесь нет, уж я на этих делах собаку съела.
Акинфиев ненароком подумал о группе «Миг удачи» и о ее убитом солисте Черепанове. Нужно было как можно скорее выяснить все о музыкантах. Вдруг да кто-нибудь из них якшается с почитателями дьявола? Но тут вставил слово неисправимый материалист Шершавин, про которого все как-то забыли.
— А зачем нужно было предупреждать жертву, посылая фотографию? — спросил он. — Это что, тоже элемент культа?
Ему не ответили, потому что никто этого не знал.
— То-то и оно, господа, — удовлетворенно хмыкнул министерский чин. — А я вам скажу, зачем.
— Ну, скажи, — живо откликнулся Акинфиев.
— А затем, чтобы повести тебя по ложному следу, Акинфий. Пока ты будешь ковыряться в разных сатанинских талмудах, такую фотку получит еще несколько человек. Именно поэтому и Шарон Тейт, а не Мерилин Монро и не Клаудиа Шиффер с кардиналом, то есть Кардинале.
Тем не менее вечером Акинфиев поехал к Гурвич домой и взял у нее столько этих самых талмудов, сколько смог унести.
* * *
Сатана оставался неизгнанным в Иерониме. Чуяли неладное братия и архимандрит Арсений: на исповеди монах всякий раз горько плакал и замолкал, отрабатывал неистово епитимью и опять плакал. Ложь перед Его ликом угнетала, иссушала инока. «Боже! Милостив буди мне, грешному», — дрожащими губами изрекал Иероним, и старец молил Господа о кающемся. Иероним усыхал. Сатана блаженствовал.
Письма к монаху приходили редко. Когда он получал их, то еще более впадал в тоску. Писем Иероним не любил и боялся. Они напоминали о том, от которого он давно отрекся, которого изгонял. Ничего не осталось от Николая Кочура из подмосковного Косина, парня, не помышлявшего ни о Боге, ни о душе, и даже ничего не знавшего об их существовании. Теперь он старался забыть мир и друзей, и женщину на десяток лет старше, указавшую путь ко греху. Тот грех был давно ему отпущен, но был другой — страшный, непростительный, ибо с мимолетным наваждением пришел к нынешнему иноку Сатана — на всю его жизнь, которой не хватит (теперь он понимал это) на искупление.
Изредка грешная картинка вставала перед Иеронимом во всей неприглядности, в ярком до постыдного цвете: призывно голое женское тело, алые пятна крови на нем, исцарапанные руки, моляшие о пощаде, искривленный страхом и страданием рот, бездумные, опустошенные глаза. Крик женщины будил Иеронима по ночам, и тогда он вскакивал, падал на колени, и истово, теряя связь времен и событий, начинал креститься и причитать под торжествующий смех Сатаны:
«Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей жизни, не остави меня, грешнаго, ниже отступи от меня за невоздержание мое…»
Потом он подолгу глядел на Присноблаженную, покуда Ее святой лик не начинал казаться ликом опороченной Катерины. И глаза на иконе вдруг оживали и отвечали ему пренебрежением и упреком. Это длилось лишь какое-то мгновение. Монах боялся отвлечься, боялся моргнуть, чтобы не пропустить взгляда Богородицы: вдруг в нем прощение? вдруг отпущение греха?.. И тогда Сатана изыдет…
Но шли дни, пролетали годы, а прощения не было.
В воскресенье недели тридцать второй по Пятидесятнице после молитвенного сожаления обо всех отступивших от церкви возгласили анафему. Иноку, уповавшему на предрождественские службы и потому постившемуся даже и без сочива — только дух поддержать для молитв, — пришло два письма из далекого, чуждого, нелюбимого мира. Одно было писано матерью, другое пришло без обратного адреса. Уединившись, он вскрыл первое и стал читать:
Читать дальше

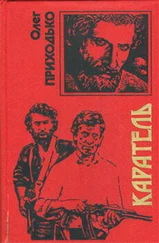






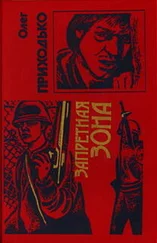

![Андрей Земляной - Проект «Оборотень» - Проект «Оборотень». Успеть до радуги. День драконов [сборник litres]](/books/384831/andrej-zemlyanoj-proekt-oboroten-proekt-oborot-thumb.webp)

