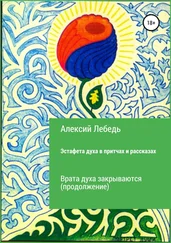Ефим Бершин Маски Духа
Здесь есть возможность читать онлайн «Ефим Бершин Маски Духа» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Книги. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ефим Бершин Маски Духа
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.33 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ефим Бершин Маски Духа: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ефим Бершин Маски Духа»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ефим Бершин Маски Духа — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ефим Бершин Маски Духа», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Выйдя из магазина, я попытался вытащить елку из сугроба. Но она не поддавалась. Я потянул сильнее — результат тот же. Тут приятель жестами выдвинул гипотезу, что это вовсе не та елка. Я начал дергать все по очереди, но быстро обессилел. Приятель хотел уже было бежать в гараж за пилой “Урал”, которую привез в качестве сувенира из последней командировки в Княжпогостский леспромхоз, но тут моя жена привела двух подозрительных мужиков в галстуках и одинаковых лисьих ушанках, которые на поверку оказались партийными работниками. Партийные работники живо отыскали мою елку, после чего на радостях мы тут же выпили, взяли еще и отправились в гости к приятелю. Партийные работники увязались следом.
— Вы, простите, по какой темочке-то работаете? — интересовались они по дороге.
— По Воркуте, — хрипел я, — исключительно по Воркуте.
— Ну а в Воркуте вас что привлекает? Уж не...
— Исключено. Воркута — порт пяти морей.
— Простите великодушно: чего-чего порт?
— Пяти этих... углей, — поправился я.
— А-а-а! — протянули они дружно. — Ну-ну. — И пока заткнулись.
Дома стол был накрыт с абсолютной роскошью, какая только была возможна. На аккуратных блюдечках нежилась розовая семга из пайка партийных работников, посредине развалилась уже упомянутого качества горбуша, а водку Любка, хозяйка, зачем-то разлила по графинам. Откуда-то появились шпроты, нарезанная сырокопченая колбаса, котлеты с подливкой и даже завитая кудряшками лука нежнейшая селедочка иваси в собственном соусе.
Чтобы было понятно, я расскажу, как мы сели. Сели мы так: партийные работники — на диване, Галка — между ними, а мы с Любкой — по другую сторону. Приятель до стола не дошел — уснул в прихожей.
Ну, значит, выпили. Потом, значит, еще. Потом — по третьей. Потом работники опять подъехали:
— Так что вы там про Воркуту говорили?
— Холодно там, — говорю, — мороз, бабы мерзнут. Пока мужики в забое уродуются, они к Ромке Юнитеру бегают, к фотографу, греться. А он одессит, Ромка. Уже многих согрел. Скоро там одесская колония будет.
— Вы нам про Ромку не заливайте! — нагрубил партийный. — О Ромке мы отдельно поговорим. Вы лучше расскажите, о чем с нашим, так сказать, ученым, так сказать, с Револьтом Ивановичем Пименовым беседовали три дня назад на углу у магазина? Как раз там, где сегодня елку искали.
Тут мне или помстилось чего, или водка наконец сильно ударила — не пойму.
— Ты чего, — говорю, — сука, мою бабу под столом за коленку лапаешь!
Галка хихикнула, но не покраснела. А партийный прямо мне в лицо засмеялся. Противно так засмеялся, по-партийному. Меня и заело. Поднял я тогда стол со всеми закусками, рыбами, котлетами и соусами да на них и перевернул. Откуда что взялось? Всегда ведь спокойный был, а тут — туман в глазах, ничего не вижу, не соображаю. Галка визжит, Любка прыгает, а партийные из-под стола вылезли — на голове селедка, галстуки в шпротах, соус течет. Вылезли — и давай меня убивать. Один кулаком норовит, а другой в углу возле елки ножовку схватил и — ножовкой, ножовкой. Так и пилит. А эти две дуры меня еще за руки держат. Ну я их отшвырнул и — за топор. Там же, в углу стоял, у елки. И на них с топором кинулся. Они, конечно, расступились, и я топором со всего маху — в трюмо Любкино. Ну — вдребезги. Сам весь порезанный, разворачиваюсь, а они меня тут и достали — ножовкой, в переносицу. Все. Дальше не помню.
Утром — будто меня пьяный крокодил выблевал. Хорошо, Алшутов подхватил да в баню отвел, к похмельным лесорубам. Разделся я, посмотрел в зеркало — боже! Будто сосна с лесоповала — морда запеклась, тело все надпиленное. И голоса нет. Хорошо еще сучкорубы не успели поработать, руки-ноги на месте. Сел я тогда на лавку, голый, тощий, и завыл сквозь зубы.
* * *
Завыл я, значит, сквозь зубы, потому что понял: дома опять нет, жены нет, любовь кончена, партийные меня пасут и даже пожаловаться некому. А кому жаловаться? Некому. У кого власть-то? И тогда я подумал и решил от полной моей безысходности написать жалобное письмо царю Соломону. Почему царю Соломону? А черт его знает. Захотелось и все. И я написал:
“Ваше Величество царь Иудейский, нарцисс Саронский и лилия долин!
Не прошу твоего снисхождения, ни палат в Иерусалиме, ни верблюдов для странствий моих. Но было тобою сказано: “Что лилия между терниями, то возлюбленная моя между девицами”. А моя возлюбленная — терн между лилиями, дочка иудина. Стукачей навела, сука благовонная. Как ты велел, подкрепил я ее вином, освежил яблоками. И сидел в тени ее любви как последний идиот. И видел периферическим зрением, что смоковницы распустили свои почки, и говорю, как ты велел: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. А она сидит. И блаженными устами своими кушает нектар воркутинский.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ефим Бершин Маски Духа» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.





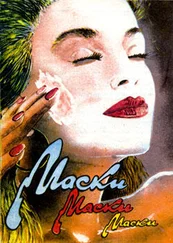
![Николай Метельский - Унесенный ветром - Меняя маски. Теряя маски. Чужие маски [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414780/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-menyaya-maski-thumb.webp)