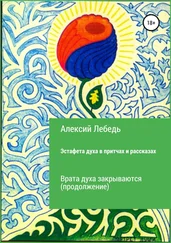Ефим Бершин Маски Духа
Здесь есть возможность читать онлайн «Ефим Бершин Маски Духа» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Книги. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ефим Бершин Маски Духа
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4.33 / 5. Голосов: 3
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ефим Бершин Маски Духа: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ефим Бершин Маски Духа»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ефим Бершин Маски Духа — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ефим Бершин Маски Духа», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Люди! Спасите! Армяне моего друга убили!
— Вай, Женя! — говорит Левон, держась рукой за голову. — Почему армяне?
— А кто же еще? — спрашивает Женька и оглядывается по сторонам. — Здесь больше никого нет.
И так всегда. То армяне друга убили, то украинцы колбасу съели. Но это все оттого, что Женька вообще не понимал, что такое национальность. Поскольку в его крови загуляли то ли шесть, то ли восемь народов — от французов и поляков до русских и немцев — и он сам не очень понимал, кто он такой, то национальность была для него чем-то вроде клички.
* * *
Но в любом случае без одесской колбасы поэту плохо. Поэтому в ее поисках я спустился ближе к Дерибасовской. И вместо колбасы вдруг обнаружил театр. Красивый театр, весь облепленный строительными лесами. Подойдя поближе, я увидел, что центральный вход закрыт. Поэтому, обойдя здание со стороны моря, я перелез через груды песка и щебня, старательно обогнул торчащие со всех сторон провода и вошел внутрь через грузовые ворота.
Но поскольку я был не на лошади, а пешком, то и проплутал изрядно, пока через обшарпанную кулису не выбрался на сцену. И тут меня черт попутал, как путает всех без разбору, если их часто выводить на сцену или показывать по телевизору.
В цирке есть так называемый эффект манежа: если даже очень маленький и очень некрасивый человечек выходит на манеж под свет юпитеров, он тут же сам становится Юпитером — большим, толстым и красивым. И постепенно сам начинает верить в то, что он большой, толстый и красивый. Или, например, если какого-нибудь дурака или даже урода каждый вечер показывать по телевизору, то постепенно он заболевает болезнью веры в свой талант и красоту. Я, между прочим, знаю таких. Даже из среды прозаиков и поэтов.
Со мной же это произошло мгновенно. Выйдя на подмостки, я в ту же секунду почувствовал, что меня неудержимо тянет сказать речь. Дождавшись, пока “затихнет гул”, я вытянул руку к балкону и вдруг ляпнул: “Дамы и господа! Абрашка уже передал привет Синявскому и исчез с рынка!”
Бред какой-то. Причем здесь Абрашка?
Успев сообразить, что это именно бред, а не какое-то другое явление, я было замолчал. Но из меня само полилось: “Кончайте свои оперы, дамы и господа! Кончайте свои песни и свои танцы! Кончайте и бегите отсюда. Потому что эскадрон уже соединился на углу Ришельевской и Еврейской, потому что пятерка кавалеристов крадется по коридорам, а Носатый уже сорвал маску со стены! Бегите, господа, иначе будет поздно! Опера — это вам не жизнь, а жизнь — это вам не опера. За стенами театра сегодня другая опера и другие актеры. Ваше время ушло, господа. Ваше время всегда уходит, когда приходит время тех, кому пора на сцену. Потому что они и есть — время без времени, солисты без голоса и правители без государства. Они — хозяева жизни, которой больше нет. Есть только сцена, господа...”
Я величественно оглядел пустой зал и хотел было продолжить нести эту ахинею, как за стенами грянул гром. Это не был гром аплодисментов. Это был другой гром. И он грянул.
— Кажется, таки да будет дождь, — послышался откуда-то сбоку хриплый фальцет отставного тенора.
Оглянувшись, я увидел маленького (едва мне по колено) человечка в хламиде и с непомерно задранной головой. Один его глаз был закупорен то ли моноклем, то ли увеличительным стеклом часовщика, а во втором помещался грустный театр целого мира.
— Кажется, таки да будет дождь, — повторил человечек и, изогнувшись, почесал спину. — Но я вас прошу, между нами, я уже давно не был на сцене, хотя это моя территория. И раз уж вы пошли по стопам своего дедушки, чтоб он был здоров, так и продолжайте свою чепуху. Мы ведь тоже что-нибудь понимаем в красоте. Мы себе понимаем, что актер тоже бывает скучный. Актер скучный, а деньги уже уплочены. И что, я вас спрашиваю, тогда делать?
— А что делать? — не понял я.
— Ну вы-то как раз, я вижу, понимаете. Я тоже понимаю. Если актер бывает скучный, тогда зрителям надоедает быть зрителями. Они начинают думать, что способны сыграть не хуже. Поэтому свистят и гикают и бегут со своей галерки на сцену, выгоняют актеров и издают звуки. Каждый человек хотя бы один раз в жизни имеет-таки право на звук со сцены. Вы думаете, что вы первый. Нет, вы не первый. И даже дедушка ваш был не первый. Этот театр уже такое видел! Он такое видел, что вы не видели. Вы не видели, хотя ваш дедушка, чтоб он был здоров, не только видел, но и слышал. Ах, какой у меня был тенор! Какой тенор! Теперь уже так не поют. Да, теперь так не поют, но вы тоже пришли на сцену, чтобы, как ваш дедушка, иметь свой звук. Так имейте свой звук и на пять минут считайте себя как Дюк Ришелье, как Нестор Иванович Махно или даже как староста хоральной синагоги. А я послушаю. Только посмотрю, действительно ли идет дождь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ефим Бершин Маски Духа» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ефим Бершин Маски Духа» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.





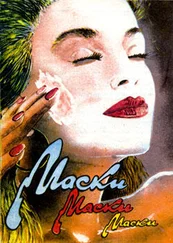
![Николай Метельский - Унесенный ветром - Меняя маски. Теряя маски. Чужие маски [сборник litres с оптимизированной обложкой]](/books/414780/nikolaj-metelskij-unesennyj-vetrom-menyaya-maski-thumb.webp)