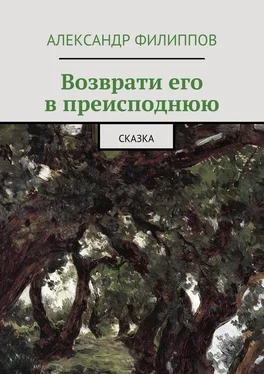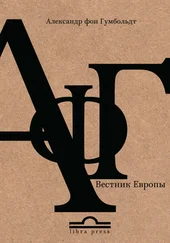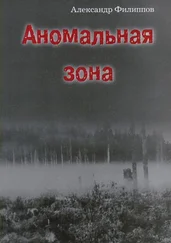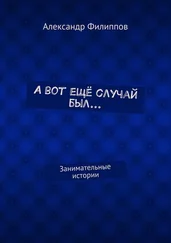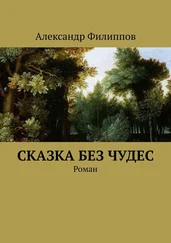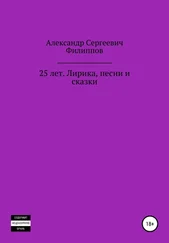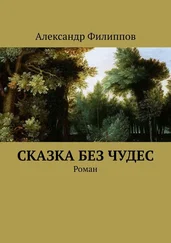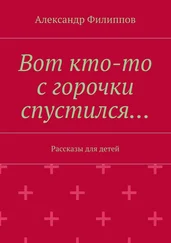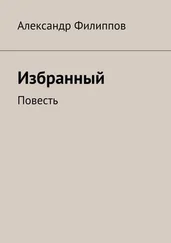Так и не опубликовав ни одного своего первого литературного опыта, он после окончания школы подался на факультет журналистики. Эта профессия казалась ему наиболее близкой к писательскому ремеслу.
Однако жизнь сложилась совсем иначе, чем представлялось в далёкой юности.
Потогонная, словно на цеховом конвейере, работа в городской газете, когда, едва закончив один материал, приходилось хвататься за новый, не оставляла времени для лирических упражнений в стихах или прозе. Да и, положа руку на сердце, он быстро понял, что особыми литературными способностями от природы не наделён. Так зачем же мыкаться по редакциям и издательствам, прижимая к груди, пожелтевшие от времени рукописи – стопки машинописных листов с потрёпанными краями, навязываться в друзья старшим, более удачливым писателям, надеясь, что они снизойдут и до твоего творчества. Порекомендуют, признают…
Дымокуров насмотрелся на таких бедолаг, с изломанными судьбами, нищих, без семей, без профессии, всю жизнь проходивших в «начинающих». Которым публикация стишка или рассказика в коллективном сборнике казалась подарком судьбы, вершиной писательских достижений…
Пристраиваться в хвост этой длинной очереди неудачников, «непризнанных гениев», он не захотел. И когда его, молодого да раннего журналиста, пригласили на работу в идеологический отдел областного комитета КПСС, с радостью согласился. И вместо непредсказуемой, зыбкой писательской карьеры принялся выстраивать более надёжную, сытную – чиновничью.
До пресс-служб в те годы ещё не додумались, но должен же был кто-то, сопоставляя, перерабатывать многочисленные справки в монументальные доклады, готовить тексты выступлений перед трудящимися косноязычному, как правило, начальству, писать в газеты статьи по судьбоносным для области и страны вопросам экономики и общественной жизни за подписью партийного руководства.
Дымокуров со всем этим успешно справлялся. Звёзд с неба, облекая куцые мысли вождей в велеречивые откровения, как говорится, не хватал, но выстраивал на бумаге речь выступающих гладенько, хотя и суховато. При этом, что самое важное – идеологически выдержанно. Вставляя, где надо, знаковые, ключевые для текущего политического момента слова и фразы, вроде: «экономика должна быть экономной». А чуть позже – «хозрасчёт», «консенсус», «гласность» и «перестройка».
После известных событий августа 91-го он, побыв несколько дней, как и большинство партаппаратчиков, в некоторой растерянности, оказался, не покидая своего кабинета и письменного стола в штате новой структуры – администрации Южно-Уральской области.
И теперь готовил те же самые доклады и выступления уже для вполне демократически настроенного вновь назначенного центром губернатора. Только ключевые слова в текстах стали другими: «рынок», «приватизация», «общечеловеческие ценности»… Так дослужил он, ничего не меняя, по сути, в своей жизни до нынешних времён. Пересидел ещё двух губернаторов, ловко ввинчивая, где надо, в их выступления ключевые слова из обоймы новой терминологии: «властная вертикаль», «суверенная демократия», «духовные скрепы», «импортозамещение»…
Тем более, это было не трудно благодаря тому, что, по большому счёту, в идеологии власти ничего не менялось. На протяжении всех тридцати лет его чиновничьей карьеры и советские, и нынешние руководители области сетовали на «временные трудности в экономике», «сложную обстановку в мировой политике», нехватку бюджетных средств, тщательно замазывая собственные упущения и всячески раздувая малейшие достижения. Представляя через СМИ населению свою каждодневную, рутинную работу как цепь величайших свершений, судьбоносных прорывов и гениальных озарений в искусстве управления областью.
И Глеб Сергеевич весьма преуспел, помогая высокому начальству в этом. Он и думать себя приучил такими вот категориями, отчего подготовленные им доклады, выступления и газетные статьи звучали довольно искренне и правдиво. И вдруг – такой прокол, стоивший ему многолетней карьеры!
А теперь он не знал, что делать с обрушившейся на него свободой, дозволенным самому себе вольномыслием, с тридцатилетним опытом спичрайтерского труда, в обычной, реальной жизни абсолютно не востребованным и не применимым…
Может быть, вспомнив несмелые мечты молодости, за роман засесть? Написать что-нибудь этакое, эпохальное? Тем более, что и обстановка вокруг соответствующая сложилась. Уединённая жизнь на природе, первозданная, можно сказать. Имение, девственный лес вокруг. Поля окрест колосятся… Лев Толстой, или, к примеру, Тургенев, позавидовали бы…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу