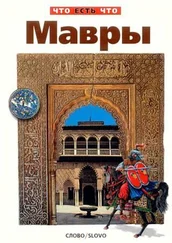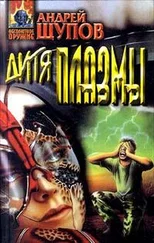Ближе: Открытие второго крыла
Я вскоре заметил, что противоположная стенка пещеры, которую я как-то всегда считал сплошной – да и какой же еще, если за ней должна была начинаться скала – имеет щели, из которых с явственной силой дует на пламя светильника. Поискав немного, я обнаружил, что это вообще не стена, а нагромождение глыб, словно там, в глубине, есть еще одна пещера, где до меня уже скрывался затворник, а камни – остатки другой, древней кладки.
От этой мысли мне стало страшно, и я даже отпрянул, и прижался к другой стене, за которой по-прежнему каждый день ожидали чудес, и сопели, и чесались, и даже шепотом переговаривались мои милые, такие родные, такие домашние односельчане… Это придало мне сил. Я взялся за один выпирающий камень, под которым щель была больше всех, чуть надавил, потянул за край на себя – и он отвалился. За ним действительно была пустота – еще одна келья! Я был прав.
Снаружи раздался вздох изумления – они услышали, как упал на земляной пол с глухим стуком отваленный мною камень. Тогда на меня напало странное раздражение – хоть я и знал, насколько это чувство грешно и мелко, и нечисто. Это было в первые дни моего заточения. Я промолился весь вечер и ночь, до куроглашения и далекого колокольного звона: в монастыре сзывали на утренний капитул.
Потом я вновь принялся за работу. Больше не один камень не поддавался моим усилиям. Но и сквозь этот узкий провал можно было видеть, что там есть большое пустое пространство.
Один сарацин, черная морда, взятый герцогом в плен при Толедо – а потом чистильщиком на конюшню, проезжал в составе свиты по нашей деревне, опрокинул чарку вина у кузнеца, посетовал на суровость Аллаха в этом вопросе, и рассказал такую историю: был мудрец Ифлатун, и придумал пещерного человека. Ифлатун был чернокнижник, и человека сделал совсем без души, слепил наспех из глины для баловства. А как набаловался, отвел человека в пещеру, и привязал к столбу спиной к выходу.
Ифлатун вскоре умер, а человек был бессмертный, он все стоял. Снаружи шла жизнь, птицы чирикали, деревья росли, солнце светило и дождь проливался, а стоящий глядел только на тени, что ходили по стенке, и даже забыл, что есть что-то другое, кроме стены и теней. И ни есть, ни пить ему не было нужно. Так бы и простоял он до Второго Пришествия, да вдруг заскучал.
К тому времени и веревки подгнили. Человек-горемыка повертелся, потянул веревки, да и освободился. Но, отойдя от столба, он побежал к той самой стене, где были тени: про выход-то он забыл! Послюнил палец, потер эту стену – э, а тени стали поярче! Он стал тереть посильнее, нашел камешек, стал шлифовать.
Прошла еще сотня лет: получилось зеркало, потом рядом – другое… То, что было снаружи пещеры, стало менее видимым. Зато, превратив всю стену в зеркало, и отступив к родному столбу, он увидел себя! Он принялся за пол пещеры, потом как-то натер потолок.
Со всех сторон – только он! С горящими от восторга глазами, высунув язык, расставив ноги, бедняга с усердием отделывал зеркала. И больше он ничего не увидел, и так остался в этой пещере, смотреть на себя, потому что мудрец Ифлатун давно умер, и некому было развернуть пещерного человека лицом к выходу.
РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Сидел как-то Любящий в одиночестве под сенью красивого дерева. Проходили мимо того места люди и спросили Любящего, почему он один. И ответил Любящий, что остался один, как увидел их и услышал, а раньше был он вместе со своим Господином.
Мне кажется, что я молился с самого младенчества. Не языком и губами, а чем-то внутри, и не я сам, а что-то во мне. Я уверен, что и в детстве было так же, как и сейчас: сильная, горячечная рука постоянно сжимала там, где кишки, и вдруг выдавливала и гнала вверх, к гортани полуслова, полуволны чистого жара. Потоки слез бежали за ними вдогонку. И почти без перерыва меня преследовала мысль о Творце, вернее, об изнуряющей меня жажды познать Его, познать иной, нетварный мир, мир чистого духа и света. Малым ребенком, едва научившись ходить, как рассказывал мне отец, я порой начинал вертеться на месте, подпрыгивать и стонать – это было от жара в кишках, и только когда я вошел в монастырь, жар сделался не столь мучительным, а я поспокойней.
Из всех молитв мне нравились самые короткие, но из всех служб – самые длинные. Но волны жара, слова, выбегали наружу, а света все не было. Как в плохое кресало, кто-то бил мне в нутро, высекая искру за искрой, но пламя все никак не занималось, и пук соломы, тело мое, все не вспыхивало, хотя становился горячим. Братья подсмеивались надо мной, а Старец качал головой, но не корил, ничего не указывал, а молчал. Помню, однажды ночью, когда мы молились вдвоем по разрешению настоятеля, и меня опять прошибли слезы, и тело мое так раскачалось, что плечом я сильно толкнул Старца, он схватился от боли за щеку, а потом вскочил, вздернул на ноги и меня – никто бы мне не поверил, что в нем еще есть столько сил! – и стал тормошить, молча, впившись мне в глаза взглядом, а потом заставил прочесть всего отца Иоанна из Дамаска, и год я читал его по строке, но ничего так и не понял.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу