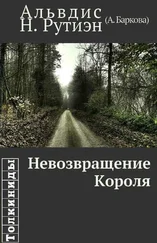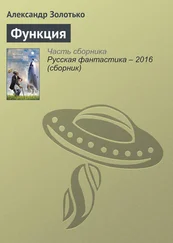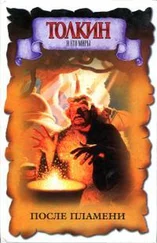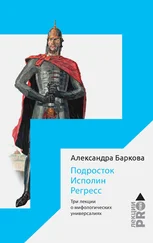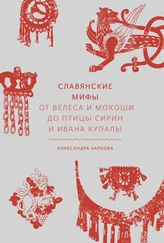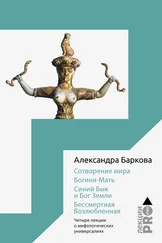В других сборниках былина о Ермаке нам встретилась лишь единожды (Тих.– Мил. № 10): гибели молодого героя в ней не происходит, Илья вместе с Ермаком возвращаются с победой. Уникальным вариантом реализации сюжетного хода “младший богатырь бьется с вражеским войском в отсутствие Ильи Муромца” можно считать алтайскую былину (Кир. I, С. 56), где таким богатырем оказывается Савишна, жена Ильи. Она остается в живых, что, как мы видим, характерно для “младшего героя” в русском эпосе.
Основной вывод, который следует из приведенного материала, заключается в том, что Ермак – отнюдь не слабый, самонадеянный юноша, каким обрисовывал его образ В.Я. Пропп [Пропп. 1955. С. 333]. Это богатырь, вполне способный совершить тот подвиг, который в других былинах совершает Илья Муромец – в одиночку разбить татарское войско. Еще раз обратим внимание на выраженную в некоторых записях былины тему ревности Ильи к славе Ермака, хотя намерение Ильи устранить соперника ни в одной записи эксплицитно не выражено.
Последний момент будет очень важен для нас. Как мы увидим из дальнейшего материала, враждебность главного героя к “младшему” гораздо чаще подразумевается, чем выражается открыто.
Несмотря на уже отмеченное нами сходство былины о Ермаке и самсоновского варианта, мы не будем здесь анализировать последний, так как Илья Муромец не является “младшим героем”, он лишь выступает в функции “младшего героя”. Разбор подобных сюжетов нас ожидает в пятой главе, пока же мы лишь приводим одно важное для нас высказывание А.Н. Веселовского.
Суммируя результаты анализа и былин, и сказаний, ученый пишет: “1. Ермак выезжает из Киева, когда там нетбогатырей ; находит их покоящимися в шатрах... сам пускается на татарское войско, богатыри являются ему на помощь; между ними главный – Илья Муромец, который в одной песне... назван его дядей. 2. Илья Муромец (выпущенный из тюрьмы) выезжает из Киева, где богатырей не случилось , просит богатырей о помощи, сам выходит против татар; богатыри выручают его; главный между ними – его дядя или крестный батюшка Самсон Самойлович... 3. Мы можем установить еще третью параллель: между этими былинными сюжетами и песней о Михайле Даниловиче [Веселовский. С. 46-47] “, А.Н. Веселовский указывает, что общие места всех этих былин “сводятся к типу юного богатыря, выезжающего самовольно на бранный подвиг и получающего помощь от старшего, ему родственного” ([Веселовский. С. 47]. Везде курсив А.Н. Веселовского).
Пока мы оставим последнее утверждение без комментария, отметим лишь, что среди приведенных А.Н. Веселовским былин нет ни одной, где бы Ермак погибал, хотя эти былины присутствуют в сборниках Рыбникова и Гильфердинга, на которые опирался ученый.
Следуя указаниям А.Н. Веселовского, мы обращаемся к былине о Михайле Даниловиче. Прежде чем анализировать ее, отметим, что все былины, так или иначе связанные с темой отражения татарских полчищ (или безымянной армии врагов, грозящей Киеву), – все эти былины обязательно содержат три мотива, выделенные в начале данной работы. Причина этого предпочтения средств описания боя с вражьей ратью, вероятно, кроется в том, что триада мотивов оказалась своего рода клише, по которому в классическом эпосе строятся все повествования подобного рода (забегая вперед, укажем, что в поле нашего зрения окажутся почти все эпические памятники Европы, составившие золотой фонд средневековой литературы).
Сюжет былины о Михайле Даниловиче отличается незначительным варьированием и выглядит примерно так. Старый богатырь Данила Игнатьевич уходит в монахи, оставляя вместо себя сына двенадцати лет от роду. Когда подступает орда, юный Михайло просит у отца благословения идти в бой, тот сначала отговаривает его, а затем благословляет. Во время боя молодой богатырь падает с коня (либо конь не одолевает последний из трех подкопов), конь вестником скачет в монастырь, а Михайло Данилович телом татарина или тележной осью побивает врагов. Тем временем на поле битвы приходит Данило Игнатьевич – но его помощь сыну уже не нужна (Кир., III, с. 38, с. 41).
Эта былина чрезвычайно широко была распространена в Архангельской губернии; в сборнике Григорьева она представлена семью записями. Отметим, что архангельские сказители практически не знали былины об Илье и Калине (две полные и две ущербные записи в том же сборнике), но чрезвычайно много пели о Василии-Пьянице (двенадцать записей, из них три ущербных – там же), то есть в их сознании татар одолевали Михайло Данилович и Василий-Пьяница, но не Илья Муромец. Этим объясняется некоторые переносы из былины об Илье и Калине в былину о Михайле (подкопы, плен, разрыв пут). Почти все архангельские былины о Михайле Даниловиче (Григ. № 231; Григ. № 289; Григ. № 293; Григ. № 343; Григ. № 344; Григ. № 385) содержат сцены с татарским послом, характерные как для былин об Илье и Калине, так и о Василии-Пьянице. Особенностью архангельской традиции можно считать причину освобождения Михайлы из плена: будучи связан и приговорен к казни, он молится – и чудесным образом разрывает путы (во всех записях, кроме Григ. № 344 и Григ. № 258 – весьма краткой и лишенной привязки к Киеву); в былине об Илье Муромце богатырь освобождается, разъярившись. Другая оригинальная деталь – конь, прибегающий на помощь к хозяину (Григ. № 231; Григ. № 258; Григ. № 289; Григ. № 293; Григ. № 343), благодаря чему бой Михайлы Даниловича с татарами предстает как в архаической форме (пеший герой сражается палицей), так и в классической (конный герой сражается мечом).
Читать дальше